Когда я подходил к машине, стая ворон, собравшаяся на ее крыше, разом поднялась на крыло переменчивым, хриплым сгустком черноты, и на секунду мне захотелось рассмеяться. Они величественно разлетались по бесцветному небу, белому и зернистому, как крупная пыль; мне казалось, что я могу смотреть на это вечно.
Рональд Кубодера
Декабрь 2000 г.
(Это пропущенный отрывок из той части, где Нортон описывает сложности взаимоотношений с Виктором.)
Я был бы рад сказать вам, что после этого случая стало существенно легче, но это не так. Точнее, и так, и не так. В течение нескольких дней после подвала Виктор действительно склонялся к тому, чтобы признать поражение: он вел себя тихо; он послушно, застенчиво, почти жеманно опускал глаза, когда проходил мимо меня в коридоре. Вообще больше всего бросалась в глаза эта его новоприобретенная тихая манера. Виктор никогда не был особенно шумным ребенком, но и молчаливым назвать его было нельзя; как и остальные, он любил вслушиваться в собственную речь и высказывать разные суждения. Он был, пожалуй, общителен, а теперь это изменилось.
Впрочем, я не хочу создавать у вас впечатление, что после такого наказания он превратился в затворника. Скорее, он повзрослел и больше не дергал губой, когда я просил его вне очереди помыть посуду, не хмурился, когда я сажал его за домашнее задание, не вздыхал тяжело, когда я напоминал ему о правилах поведения, просил говорить потише или исправлял речевые ошибки. Вместо этого явилась некоторая пустота, отсутствие, как будто ему сделали какую-то щадящую, бескровную лоботомию. Впрочем, в автомат он не превратился, он продолжал делать то, что делали остальные дети, – драться, играть, болтать, спорить, смеяться. Он никогда не плакал, но он и раньше никогда не плакал. Это я в нем всегда уважал.
Я тоже играл свою роль. Он был гордый мальчик, я понимал это и сочувствовал ему. Поэтому я никогда не напоминал о его унижении, никогда не говорил о его поведении, чтобы остальные усвоили урок. И я больше никогда не называл его Виктором. Я хотел, чтобы он сохранил достоинство.
Но потом, примерно через месяц этого новообретенного спокойствия, он снова стал вести себя чудовищно. Он пропускал уроки и скрывал это. Он столкнул Дрю с лестницы и сломал ему запястье. Он выбрил – тщательно и весьма художественно – невероятно непристойное слово на плюшевой шерсти соседской кошки. Однажды вечером я зашел в их с Уильямом комнату и обнаружил его за этим занятием. Некоторое время я молча смотрел, как одной рукой он нежно обхватывал кошку, а в правой жужжала бритва – моя бритва, – продвигаясь по мягкому ландшафту кошачьей шерсти. Он что-то бормотал тихим, успокаивающим голосом, но удивительнее всего, когда он наконец обернулся, оказалось его выражение лица: в его плоских глазах горела ожидаемая непокорность, горел гнев, но кроме того – искреннее недоумение, как будто он не мог удержаться от такого поведения, как будто его рука в этом шелковистом движении по кошачьей шерсти, повиновалась демонам, с которыми он не мог совладать.
После этого наши отношения снова стали мучительными и мрачными. За ужином он без всякого повода кричал на меня, выплевывал ужасные обвинения. Они меня, конечно, не задевали, но я начинал утомляться от этих схваток, от оплеух, от придумывания новых наказаний, способов принуждения к подчинению. Однажды ночью мне приснилось, что Виктор – это огромный злобный паук с крепкими, жилистыми ногами и красными, зловеще сверкающими глазками. Мне почему-то нужно было загнать его в маленькую и хлипкую корзину. Я пытался обмануть его, заставить, даже привлечь капелькой зернистого меда, но он все время ускользал, и когда я проснулся, мои руки, все еще сжатые в кулаки, вспотели от досады.
А потом, внезапно, как раз когда я намеревался выбросить его на улицу или заслать в колонию для подростков (это не так сложно, как кажется, если знать нужных людей), его поведение улучшалось, он становился послушным, почти что смирным, снова отступал. Но вскоре я стал бояться этих вспышек притворного покоя, перестал доверять им, потому что в это время он как раз придумывал что-нибудь особенно зловещее; он ждал, пока я расслаблюсь и утрачу бдительность, и тогда он набросится на меня, толстого, сонного, неподготовленного, и его необъяснимый гнев будет опасен и смертоносен, как орлиные когти. Когда это случалось, я думал, не болен ли он, хотя на самом деле ярость Виктора была слишком целенаправленной, слишком хорошо контролируемой, чтобы списать ее на сумасшествие; скорее, все это было частью единой кампании, направленной – на что? На то, чтобы я его убил? Совершил самоубийство? Я и сейчас не знаю, чего он надеялся добиться от меня. Может быть, для него это была просто игра, череда нападок и отступлений, с каждым разом все более решительных и опасных. Конечно, я довольно быстро мог с ним справиться; в конце концов, я был взрослый, я был умнее и сильнее, а он был ребенок. Но он при этом был мальчик, неутомимый мальчик, у него в запасе были долгие часы для совершенствования своих хитростей, и он мог навострить свои трюки так тщательно и аккуратно, как иной точит боевой клинок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
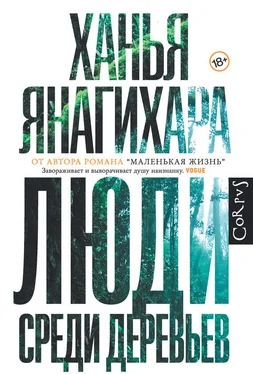



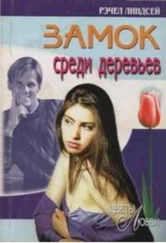


![Виктор Тюрин - Смерти вопреки - Чужой среди своих. Свой среди чужих. Ангел с железными крыльями. Цепной пёс самодержавия [сборник litres]](/books/430290/viktor-tyurin-smerti-vopreki-chuzhoj-sredi-svoih-sv-thumb.webp)



