Но в тот приезд я ничего этого не знал, и помню, как подумал – отчасти с самодовольством, отчасти с облегчением, – что Таллент все-таки оказался неправ, что перемены, если они явятся сюда, будут робкими и постепенными, а не радикальными. Я уже заметил, что некоторые деревья обвязаны красной бечевкой, что вокруг них тонкая веревка образовывает небольшие квадраты, а к стволам приделаны небольшие таблички с неразборчивыми латинскими именами – это, конечно, Мейерс постарался. Если остров подвергнется таким изменениям, думал я, беспокоиться не о чем. Я смог снова навестить черепах (моя карта оказалась небесполезной) и даже разыскал юного друга, с которым познакомился в прошлый раз, и он охотно сопровождал меня во все более далекие походы в лес. Жарким днем мы дремали в чаще, а ранним утром изучали окрестности (я обнаружил многочисленные заросли грибов, которые свели бы Мейерса с ума, и сделал для него ряд срезов и зарисовок). Я видел вождя, Уо, Лава’экэ и многих других, кого узнавал в лицо, не зная их имен.
Позже я спрашивал себя, не спланировал ли подсознательно свою поездку так, чтобы она совпала с публикацией моей очередной статьи [67]и можно было некоторое время не задумываться о том, что из этого последует. Не думаю, что это так, хотя многие со мной не согласны, и переубедить их я не в силах. Как бы то ни было, когда через шесть недель я вернулся в Стэнфорд (с еще двумя опа’иву’экэ), научный мир трясло в лихорадке. Выдвигались обвинения, писались опровержения, «Анналы» получали больше писем, чем о любой другой статье за всю историю журнала. Новости о двух моих открытиях даже просочились в массовую печать, и ко мне явились журналисты как из «Таймс», так и из «Тайма». Примерно в это же время Таллент прервал всякую связь со мной, хотя я так никогда и не узнал почему. Потому что считал (как потом будут считать многие), что я окончательно и бесповоротно погубил остров? Потому что я поставил крест на приятном сказочном образе бессмертных людей? Или просто потому, что я достиг большей известности, чем он? Чхоль Ю сообщил, что в мое отсутствие кто-то пытался проникнуть в наши лаборатории: как-то утром он обнаружил, что на замке появились многочисленные царапины, а нижняя планка двери раскрошена в месиво. Он считал, что это кто-то из ученых или, может быть, группа фармакологов, и хотя вслух я с ним согласился, в глубине души я спрашивал себя, не мог ли это оказаться Таллент, хотя опять-таки о его мотивах я мог лишь догадываться. Хотел уничтожить мои данные? Освободить сновидцев? В последующие месяцы я сделал все возможное, чтобы поговорить с Таллентом: писал ему письма, звонил, часами ждал возле его кабинета, а потом – возле на удивление убогого многоквартирного дома. Я умолял ректора и декана прийти мне на помощь. Я даже пытался поговорить с Эсме. Я вел себя как изнывающая от любви девица. Я понятия не имел, что скажу Талленту, если он выйдет на связь. Я только знал, что должен его увидеть, получить от него какое-то отпущение. Это мои открытия, напоминал я себе (а делать это приходилось постоянно), но если бы не Таллент, никаких открытий бы не было. («А если бы не ты, – шепнул мне внутренний голос, когда я услышал, что первая команда фармакологов, из «Пфайзера», уговорила короля пустить их на Иву’иву, – остров по-прежнему был бы в безопасности».)
Все, что я могу на это ответить: я старался. Я делал то, что считал правильным. Сегодня, рассказывая об этих подробностях, я часто разрываюсь: просить прощения или нет? Я отправился на остров не за тем, чтобы разбогатеть (как делали потом толпы народу), не за тем, чтобы убедить каких-то людей жить, есть и верить так, как я. Я отправился туда просто из тяги к приключениям и в лучшем случае с надеждой на исследовательскую работу. Я сделал это не для того, чтобы уничтожить народ или страну, в чем меня постоянно обвиняют, как будто такие вещи в самом деле происходят часто и намеренно. Но стало ли их уничтожение результатом моих действий? Не мне судить. Я сделал то, что сделал бы любой ученый. И если бы возникла необходимость – даже понимая, что произойдет с Иву’иву и всем его населением, – я, вероятно, снова сделал бы то же самое.
Впрочем, уточню: я сделал бы то же самое. Я не колебался бы ни секунды.
Итак, прошло два года: я руководил собственной лабораторией в отделении вирусологии Национальных институтов здравоохранения, где и прошла потом вся моя научная карьера. Чхоль Ю вернулся в Корею, где через некоторое время получил собственную лабораторию в Сеульском университете. Сновидцы по-прежнему оставались на моем попечении, хотя видел я их все реже. Их теперь постоянно изучали специалисты, которые проводили с ними различные эксперименты: анализы крови, физические, умственные, рефлекторные упражнения [68]. Институт сделал из свободного лабораторного пространства очень симпатичное укромное жилище, снабдил его деревьями и лиственным полом и приставил к сновидцам служителей, чтобы их мыть и одевать, потому что, несмотря на отсутствие окон – мы не хотели, чтобы их беспокоил и тревожил такой чужеродный пейзаж, с голыми черными ветвями деревьев, – в лаборатории ночью могло быть холодно и ходить голыми им не стоило. Кроме того, мы постепенно перевели их на западный рацион и многое узнали о том, как проходит отучение группы первобытных людей от рациона, полностью обеспеченного охотой и собирательством, и переключение на обработанные виды пищи. К сожалению, к этому моменту они почти утратили осознанность, и когда я впервые увидел Муа, которого после целого дня анализов везли в кресле-каталке обратно в их спальное помещение – голова нелепо задрана назад, руки безвольно лежат на коленях, глаза открыты, но бессмысленно бегают, – сердце у меня сжалось: я вспомнил, как быстро и целеустремленно мы некогда шли по лесу, как ловко он расставлял свои короткие ноги, чтобы пройти над гигантскими древесными корнями, торчавшими из земли. Со сновидцами проводилась необходимая работа, а упадок их был неизбежен, и все же я сентиментально огорчался, что этот процесс оказался для них таким мучительным [69].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
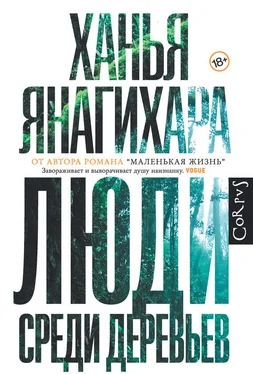



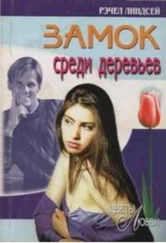


![Виктор Тюрин - Смерти вопреки - Чужой среди своих. Свой среди чужих. Ангел с железными крыльями. Цепной пёс самодержавия [сборник litres]](/books/430290/viktor-tyurin-smerti-vopreki-chuzhoj-sredi-svoih-sv-thumb.webp)



