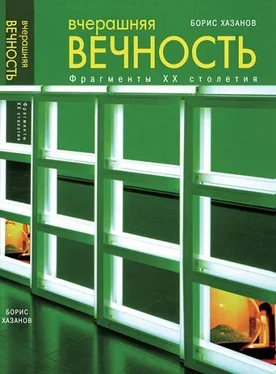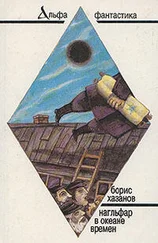Вышла невысокая, присадистая, полнолицая, молодая, на вид лет сорока, в тёплом платке, из-под которого выглядывал белый платочек, в шубейке и маленьких чёрных валенках. Козёл крутился возле неё, она чесала его за ушами, приговаривая: Козлик. А тебя как, спросила она.
«Не хочешь говорить. А я и так знаю», — и пошла вперёд. Пёс выбежал на лёд. Добрели до мельницы, она сгребла ногой снег с единственной ступеньки, оставшейся от сгнившего крыльца.
«Кабы не проломилась», — пробормотала она.
Писатель опустился рядом.
Пёс осведомился, помахивая хвостом: так и будем сидеть?
«А куды нам спешить».
«Вы здесь живёте?» — спросил студент.
«Живём…»
Помолчали, женщина сидела, вытянув ноги в валенках, поправляла платок.
«Живём — хлеб жуём. Чего тебе, Козя? Домой хочешь?»
Она поглядела на белое ватное небо и широко зевнула.
«Чегой-то спать хочется. К непогоде. Потопали, милые».
По дороге разговорились: она жила в посёлке, километров за семь. Да какой там посёлок, полторы старухи. Небось, скучно тебе здесь, сказала она. Писатель ответил, что хозяева хорошие. И ещё о каких-то пустяках. Григорий Петрович говорит, в сторожке будто бы жил святой какой-то старец. — Какой еще старец, не было никакого старца. — А кто же? — Никого там не было. — Хозяин говорит, давно: сто лет назад. — Ну, это другое дело; мало ли кто жил. Вон у нас помещики жили, баре; ничего не осталось. — Якобы царь. Об Александре Первом тоже рассказывали, что он не умер в Таганроге, а скрывался в Сибири.
«Ты его больше слушай, — сказала Клавдия, — он тебе наговорит».
«Так и не пойму, кто он вообще-то?»
«Кто… — Она усмехнулась. — Никто, вот он кто».
«Они что, тебе родня?»
«Какая родня — седьмая вода на киселе».
Оттоптали снег с валенок и вошли в дом.
В тот раз ничего не было, и, кажется, прошло ещё сколько-то времени, Клава приходила несколько раз, прежде чем — прежде чем что? Впоследствии же всё выглядело так, словно совершалось в один день.
«Давай помогу, что ль», — промолвила она, вслед за Василисой вышла на кухонную половину и вернулась, неся перед собой ухват с шипящей чугунной сковородой. Хозяин, заросший, как лесной царь, восседал под образами. Клава выбежала в сени — «я сейчас» — там была другая дверь — и вернулась в платочке, из-под которого кокетливо торчала ореховая прядь, в пёстром платье с бусами на груди, с неумело накрашенными губами.
«Ишь ты, ишь ты», — проворчала старуха. Григорий Петрович смотрел на Клавдию из-под нависших бровей. Все уселись за стол. Козя, не дождавшись, когда начнут, уже хлебал что-то из миски.
«Вот это другое дело, — сказал Григорий Петрович, по-хозяйски беря со стола бутылку с бело-зелёной этикеткой, — „Карагандинская“! Караганда-то знаешь, где?»
«Не знаю».
«И не надо знать. Это даже и не Россия».
«Почему же не Россия?» — спросил студент.
«Где брала?»
«Пей, отец, и не спрашивай. Кушайте, милые».
«Снег-то какой повалил. Завалит нас всех», — сказала Клава, наклонившись к окошку.
«Ничего, откопаем тебя».
«Кушайте на здоровье…»
Несколько времени спустя хозяин объявил:
«Всё, напился, наелся. А теперь вот почитаю вам».
«Да ты уж читал…»
«Пущай послушают. Им будет полезно».
Василиса принесла толстую книгу в пожухлом чёрном переплете, мужик сдвинул в сторону тарелки, нацепил очки, послюнил палец.
Хорошо жить в честном браке, но лучше никогда не жениться.
«Это почему же?» — спросила Василиса.
«Молчать. Слушай и не перебивай».
Писатель спросил, что это за книга.
«Граф Лев Толстой. Слыхал про такого?»
«Слыхал вроде бы», — сказал писатель.
«Вот и помалкивай. „Путь жизни“ называется».
Если люди женятся, когда могут не жениться, то они делают то же, что делал бы человек, если бы падал, не споткнувшись. Если споткнулся и упал, то что же делать, а если не споткнулся, то зачем же нарочно падать? Если можешь без греха прожить целомудренно, то лучше не жениться.
«Какой же это грех — женитьба, — сказала Василиса. — Чего он там пишет! Сам небось…»
«У Толстого было тринадцать детей», — сказал студент.
«Вот. Это тебе ученый человек говорит».
«Молчать… Много вас, умников».
Губительны для доброй жизни излишества в пище, также и ещё более губительны для доброй жизни излишества половой жизни. И потому чем меньше отдаётся человек тому и другому, тем лучше для его истинно духовной жизни .
«Вот, — сказал хозяин и строго взглянул на Клавдию. — Тебя касаемо».
Читать дальше