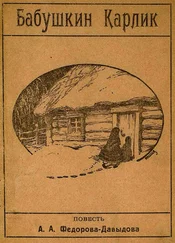Он нырнул в подворотню, чтобы проходными дворами, кратчайшим путем добраться до нее. В одном из темных, обшарпанных тоннелей ему на глаза попалась газета, несколько, правда, затоптанная, по ней прошелся не один десяток человек, но вполне пригодная для исследования: проверить по ней, в каком периоде времени, как сказал бы великий Аэроплан Леонидович, он обретается. Насчет дат, как известно, мастаки врать календари, газеты же на этот счет пока были вне подозрений.
Иван Петрович поднял влажное, отсыревшее в тоннеле издание, вышел на свет и сразу узнал захлебистый очерк о том, как после катастрофы в Чернобыле в его окрестностях вовсю распевали счастливые соловьи. Из своей эпохи он, несомненно, не выпал, но и радости особой от этого не испытал, скорее разочарование — что и говорить, были времена и получше. Брезгливо, даже не скомкав, хотя ему этого очень хотелось, двумя пальцами он отбросил газету на кучу использованных молочных пакетов. Всегда находятся продажноголосые соловьи, способные воспеть что угодно. И братоубийство, и доносительство на родного отца, и нищету нравственную, духовную и материальную, и вандализм разрушения культуры, и истребление земледельцев, и превращение живой природы в лунный ландшафт. И бесстыже тянуть арию о том, что наш родной, советский атом не с таким коварным нравом, как кое-кто думает… Господи, ну если Тебя нет, это еще можно как-то объяснить, но если Ты есть, так почему же такое допускаешь?!
В сильнейшем возбуждении Иван подбежал к старой кирпичной стене и стал колотить ее кулаками. Видимо, накопившаяся нервная энергия перехлестнула, что называется, через край, ей требовался выход, и он колотил стену, пока кулаки от боли не онемели. Обессиленный, с мокрыми от слез глазами, Иван Где-то прислонился плечом к холодным, склизким от зеленого мха кирпичам, немного успокоился и побрел назад, поскольку, идя вперед, к «стене коммунаров», как он задумал, мог уйти не на двадцать минут, а, по крайней мере, недели на две.
— Все-таки вы… Как же без вас, — проворчал Иван Где-то товарищу Около-Бричко, который с идиотской, как у атомных часов, точностью ровно через двадцать минут приблизился к его двери.
Он пропустил вперед клиента, предложил стул, сел на свое место и воскликнул:
— Ну, как вам, дражайший Аэроплан Леонидович, объяснить, какие силы земные или небесные призвать в помощь для вашего вразумления, чтобы вы перестали мучить себя и всех окружающих своей литературой, своим творчеством, активностью? Кто вам сказал, что из вас может получиться писатель? Назовите его имя, и я его убью на дуэли или попросту кирпичом! Я голову оторву тому, кто надоумил вас взять в руки перо, обрек вас на такие страдания! Здесь много званных, но так мало избранных!
— Позвольте, не в таком лихом аспекте! — остановил Иванову тираду Аэроплан Леонидович величественным поднятием руки. — Тому, кто надоумил, не оторвете вы головы, его лишили жизни смертельным отравлением ! Вы со мной так не смейте разговаривать, я по призыву Алексея Максимовича Горького, в честь тридцатилетия его кончины отмобилизовался в писатели от станка и сохи!
«Опять Алексей Максимович!» — вздрогнул поэт, редактор и литконсультант.
Признание Аэроплана Леонидовича тронуло Ивана Где-то своей безысходной трагичностью, и хотя Около-Бричко осточертел ему, но ведь он все же человек и достоин участия, поскольку поистине графомански распорядился всей своей жизнью.
Аэроплан Леонидович почувствовал неожиданное потепление со стороны своего заклятого врага и позволил себе еще немного пооткровенничать насчет собственного творческого пути:
— Я еще по малости лет, от парты мечтал… Но без осознания жизни я, как Илья Муромец, сиднем сидел над ежедневными дневниками тридцать три года, куда копил текущие моменты , чтоб потом во весь рост… Нынче, в соответствии со зрелым возрастом и непрерывным стажем жизни и трудовой деятельности, но в канун светлого будущего ты уже ветеран и вполне может произойти окончательный подвод черты под всей повесткой дня моей биографии, ну, может статься, до конца перестройки и не дойдем окончательно…
— Не прибедняйтесь, Аэроплан Леонидович! Как это не дойдем? Дойдем обязательно, — с деланной бодростью произнес Иван Петрович, а сам подумал: «Может, и не дойдем… И звучит это идиотское «дойдем» двусмысленно…»
Рядовой генералиссимус пера кротко уточнил:
Читать дальше