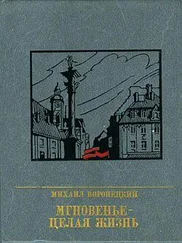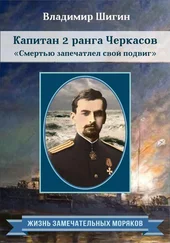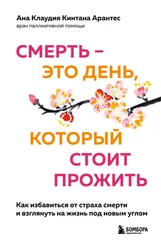Мне и не думалось тогда, что однажды на этом самом углу будет стоять мой младший сын и — она с ним рядом. Но ведь случилось же это чудо!
А еще через год мы пришли сюда вместе с нею, тоже в первый день приезда. И я смотрел туда, где когда-то светилось окно и где теперь ничего нет. Пойми, сын, что испытывал я тогда, счастливый прожитой жизнью, именами сыновей, вдалеке от родного дома хранящих покой России, покой этой городской улицы, с которой давно-давно для них, еще не родившихся, начиналась Родина.
Ты обошел там все. Был в Кремле, у полуразрушенной Покровской башни, где в войну мы готовили корпуса для противотанковых мин — теми минами новгородская земля взрывала гитлеровские танки. Ты стоял у братской могилы, где Вечный огонь — нетленное дыхание сгоревших жизней тех, кто не научен был отступать. И, наверно, именно здесь, возле огня и могилы, вошло в тебя то большое, чему не подобрать названия. Полгода оставалось тебе до начала солдатской службы.
Ты был на старом городском кладбище… Здесь когда-то я прощался с отцом. Учитель, художник, охотник и слесарь, умевший все, кроме единственного — беречь себя. Лютым декабрем двадцать восьмого года он подолгу работал в аэроклубе — на холме над Волховом. На всю каменную пустоту здания была одинокая печка, от которой всего и благости — обогреть закоченевшие пальцы. Там и простыл навечно. Два лучших врача навещали его. От них я услышал страшное слово «каверна». Я не знал значения его, но догадывался о худшем.
Отец умер ранним июльским утром.
Он лежал с кислородной подушкой, когда я, разбуженный матерью, разыскал и привез на извозчике врача. Врач потрогал пульс и произнес еще одно — еще страшнее — слово «коллапс». Непонятное, оно значило, что от меня уходит и сейчас вот навек уйдет дорогой человек.
Отец дышал часто-часто и тянул руки к матери. Она подошла, и я различил его последние, уже на излете, слова:
— Подними меня в озеро…
Мы приподняли его на подушки, и сразу кровь хлынула горлом. И он стал на глазах гаснуть. И полулежал потом, обессиленный и спокойный — догоревший. И смотрел все в одно место… Наверно, видел свое озеро…
А потом была свежая могила под густым старым кленом. Грохотал троекратный ружейный залп — из двустволок палили друзья-охотники. Ухали земляные комья, падая на крышку гроба, и кленовые листья, кружась, опускались откуда-то с неба. Меня шатало…
Могилы деда ты не нашел. Не нашел ее и я. Десятки лет и война смахнули с пригорка дерновый холмик. В сорок первом здесь врезался в землю пылающий «мессершмитт».
Но земля моего детства не отпустила тебя с пустыми руками. В бесчисленных снимках — мгновеньях твоего зрения — увез ты из древнего города бесценную память: облако с его неба и камни его заставы, на упавшую звезду похожий солнечный блик с купола собора, морщинку прибрежной волны с Волхова и всполох Вечного огня с братской могилы. Ты привез это с собой, может, и не задумавшись о смысле всего. Этот смысл велик и прост, как неосознанно вдыхаемый нами воздух. Этот смысл — верность. Верность всему, что бесконечно дорого человеку и человечеству. И, значит, старый Новгород тоже каплей влился в нее, в твою верность.
Ты пишешь в своем письме:
«…По-прежнему работаю «в поте лица», но не так уж чтобы до упаду, а вовсе даже наоборот. Иногда и сачкануть себе позволяю. Свободное время трачу на беллетристику и прочие удовольствия вроде проклятой техники безопасности. Скоро буду сдавать «на повышение».
Это я выделил слова «вроде проклятой техники безопасности». Потому, что выражают они черту характера, какой отличался и твой дед: неумение беречь себя.
Помню, еще на производственной практике, в октябрьскую стужу ты полез в землю — выкладывать кирпичный колодец, круговую кладку, потому что кто-то отказался: сложно, холодно и вода к тому же. А ты полез. И доказал: ничего, что холод, что вода и что сложно…
Пришел как-то с забиптованной головой. Тоже с практики. Переносил кирпичи со стены на стену по шатучей доске: хотел побыстрей — почему-то не спешили подавать кирпичи снизу краном. Доска кувыркнулась, и ты чудом не свалился с третьего этажа. Но конец доски хлестнул по лбу и разбил очки; осколок поранил веко. Пришлось накладывать швы.
А ты пришел и смеялся.
«28 июля.
Здравствуйте, дорогие…
Сегодня ребята, наши шоферки, привезли письмо от вас. С ними же отправляю свое письмишко. Жизнь бежит по-прежнему в работе «на благо общества». Изредка хожу в наряды на кухню, «поправляю здоровье». Кухонный наряд не такая уж страшная вещь, как некоторые думают. Говорят, я даже поправился за эти семь месяцев.
Читать дальше