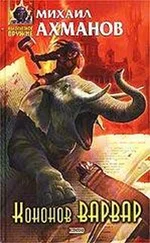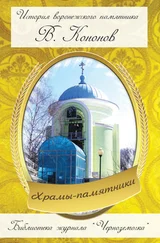Над дальним сосновым бором и ельником, уже неразличимо темнеющими внизу. Будто бы догоняя Чайку, скользнет, как челнок, через круглое Хистяй-озеро луна — и сверкнут стекла самолетных кабин на западном берегу, где у Гансов аэродром. Ничего, погодите, мыши летучие, и до вас дойдут руки, некогда сейчас, пардон мадам. Каждая ведь минуточка дорога! Скорей, быстрей, на самой предельной скорости! От секундочки даже зависит ведь! Нет уж, товарищи, хватит позориться, на самом-то деле! Ведь уже сорвалась операция и в прошлую ночь, и в позапрошлую, и неделю назад, и месяц, — каждый раз с тех пор, как начались ночные полеты, ну а сегодня-то вот уж хуюшки вражеской гидре! Главное — понять, в чем тут загвоздка, не дать себя снова облапошить. Вовремя тактику изменить — и успех операции обеспечен, Гитлер-капут.
А может быть, генерал так и задумал? Чтобы, значит, не сразу же выходить Чайке на поединок с черным драконом, а вначале приобрести достаточный стаж ночных полетов. Как летчики выражаются — налетать часы. Но сколько же можно часы эти ваши никчемные налетывать, товарищи дорогие? Одного горючего сколько изведешь! А пока с вами тут валандаешься без толку, как дерьмо в проруби, уж он-то дело свое черное делает, будьте уверочки, ведь недаром драконом назначен, бляха-муха! А между прочим, Ленинград второй год в блокаде, причем разобраться с этой позорной ситуацией раз навсегда, поставить все с головы на ноги может одна Муха, то есть, простите. Чайка, конечно, это ясно. Так сколько же можно мариновать девушку, почему такое недоверие? Так бы в глаза вам и рубанула правду-матку, не обижайтесь уж, товарищ генерал, — не проработан, мол, у вас данный вопросик, плохо, видно, разведка ваша мышей ловит. Иначе ведь доложили бы вам лично, сколько новых фигур высшего пилотажа освоила и отработала Чайка за один только последний месяц. На все руки от скуки, как говорится.
И Чайка спокойно направляет лазоревое облачко своей нетерпеливой верности вверх, стремительно уходя в петлю Нестерова, — ни на миг стараясь при этом не потерять из виду единственный надежный ориентир — полосу заката, разделяющую огневым рубежом небо и землю. Кувырок назад, еще кувырок, еще, — всякий раз видя то ли след свой искрящийся в воздухе, то ли какой-то шлейф, очень похожий на длинные-длинные, какие всегда иметь мечтала, ноги артистки Орловой, только в данном случае голубовато-прозрачные. Они переливаются в воздухе и трепещут, как газовый невесомый шарфик. Вот с такими бы ножками и влететь ночью в форточку к Вальтеру Ивановичу!..
Знать бы только, где форточка эта зарешеченная, в окне которой из тюрем. Если жив еще он, конечно, чудак-человек. А нет, — так ведь и перед мертвым, и под землей могла бы предстать, трупов давно перестала бояться, причем сколько раз убеждалась в своих проникающих возможностях, насквозь пролетая во сне холмики, небольшие высотки, даже каменные стены зданий в Ленинграде. Так что и в могиле его обнаружить Чайке — как раку ногу оторвать, вездесущая она во сне и бронебойная. Вежливенько, как в дверь класса, постучалась бы к нему в гроб. Извините, мол, Вальтер Иванович, битте-дритте, опоздала я на урок, как всегда. Кое-что сказать вам хотела, ну, например: их вайе нихт вас золь эс бедойтен… А чего это вы такой бледный, кстати? Ведь просто лица на вас нет — буквально! Ни дать ни взять, классик заправский, когда он про любовь сочиняет очередную свою «Лорелею», чудак. Да, неважный у вас видок, прямо скажем. И в глазницах чего-то червяки вон копошатся — вместо голубеньких-то ваших, с поволокой-то, ясных-то глазок моих ненаглядных. И зубы оскалены зачем-то. Ровные зубы, широкие, — один к одному, — интересный вы были мужчина, что и говорить. Только вот черт же вас дернул «валькирией» обозвать ни с того ни с сего простую советскую школьницу. Да не обижаюсь, привыкла уж, даже нравится. Так что спасибо вам, битте-дритте. Ну, ладушки, полетела я, извините: служба. Задание мое секретное, а вы немец, за что и страдаете тут в гордом одиночестве, так что много будете знать — скоро состаритесь. Ауфвидерзейн, майне либе кнабе, мальчик мой любимый. Только вот поцелую разок на прощанье, теперь-то не страшно. Удачно очень, что губы у вас уже сгнили начисто, а то, неровен час, крота бы родила или червя от поцелуя вашего подземного, как чудачка какая-нибудь, эх, бляха-муха! Раньше, раньше надо было нам с вами целоваться, единственный мой Вальтер Иванович, — Алешке только не говорите, если там встретите где-нибудь…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу