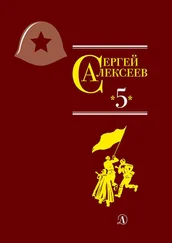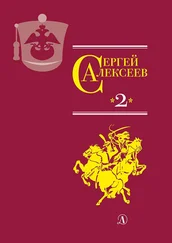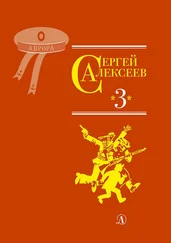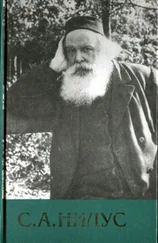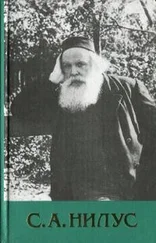Практически все довлатовские запечатленные в прозе истории были сначала поведаны друзьям. Рассказчиком Довлатов был изумительным. В отличие от других мастеров устного жанра, он был к тому же еще и чутким слушателем. Потому что рассказывал он не столько в надежде поразить воображение собеседника, сколько в надежде уловить ответное движение мысли, почувствовать степень важности для другого человека только что поведанного ему откровения. Подобно мандельштамовским героям, Довлатов «верил толпе». Не знаю, как в Нью-Йорке, но в Ленинграде стихотворение «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…» он повторял чаще прочих и единственное читал от начала до конца.
9
«Обидеть Довлатова легко, а понять — трудно». Эту фразу я слышал от Сережи едва ли не со дня нашего знакомства, и ею же он реагировал на мой первый отзыв о его сочинениях.
Году в шестидесятом, прочитав подсунутые им мне на лекции (мы оба учились на филфаке в ЛГУ) три крохотных шедевра, три его первых прозаических опуса, я не мешкая возвратил их ему и, ткнув в один из них пальцем, заявил: «Этот мне не понравился меньше». Как ни странно, но это была похвала. Впрочем, видимо, слишком уж редуцированная. Сережа мне ее припоминал долго, до тех пор, пока не обрел уверенность в том, что никто никому ни помочь, ни помешать в творческом деле не в состоянии. Но и самому тут стесняться не приходится. Как заметил однажды Достоевский, писатель — это не корова, пощипывающая травку на лугу, а тигр, который поглощает и траву, и корову.
Расскажу об одном из путей, на котором Довлатов утвердил собственную оригинальную манеру за счет чужого литературного опыта.
Ни один из читателей не обвинит Довлатова в ненатуральности диалогов его книг или в рассудочном обращении с языком в целом. Между тем тот факт, что у Довлатова нет ни одного предложения, где слова начинались бы с одинаковых букв, свидетельствует о принципиальной и полной сконструированности текста. Конструкция эта максимально свободная, потому что из нее удалены все чужеродные прозе элементы — от поэтических аллитерированных эффектов до непроизвольной фонетической тавтологии застольных и уличных говоров. Петр Вайль и Александр Генис пишут по этому поводу: «Довлатов затруднял себе процесс писания, чтобы не срываться на скоропись, чтобы скрупулезно подбирать только лучшие слова в лучшем порядке». Отработана эта довлатовская модель стилистики в эмиграции, но в основу ее положены соображения, обсуждавшиеся дома. Я рассказал однажды Сергею о французском прозаике Жорже Переке, умудрившемся, пренебрегши одной из букв алфавита, написать целый роман. Сошлись мы — после некоторой дискуссии — на том, что понадобилось это писателю не из страсти к формальным решениям, а для того, чтобы, ограничив себя в одном твердом пункте, обрести шанс для виртуозной свободы.
Довлатов нашел более изысканный — по сравнению с французом — способ нарочитого ограничения, давший исключительный эффект.
Довлатовский жанр возник на фоне избыточно стиховой культуры ленинградской творческой молодежи начала шестидесятых и был в общих чертах на нее реакцией и ее же детищем. Сюжеты Довлатова представлялись рожденными для этой поэтической вакханалии, казались застольным ее вариантом, выдумкой в духе, скажем, Евгения Рейна. Когда б не одержимость вырабатывавшего новый художественный дискурс автора. Как Владислав Ходасевич «гнал» свои стихи «сквозь прозу», так Сергей Довлатов каждую свою прозаическую строчку «гнал» «сквозь стихи», сдирая с нее все внешние приметы поэтичности. Но память о стихотворном ритме, лирическом гуле эта строчка сохраняет. Стиху она не враждебна, тянется из дебрей поэтической просодии. Ранние довлатовские рассказы, такие, как «Блюз для Натэллы» или «Когда-то мы жили в горах», вполне можно членить на строфы:
Когда-то мы жили в горах.
Эти горы косматыми псами
лежали у ног. Эти горы
давно уже стали ручными…
И так далее. Финал «Иной жизни» и вовсе зарифмован — на манер финала набоковского «Дара».
Явного внесения метра в прозу следовало тем не менее избегать: рассказы не читают скандируя или притоптывая. Опыты в духе Андрея Белого казались Довлатову интересными, но нарочитыми. Его интриговала тайна синтаксической простоты «Капитанской дочки», «Повестей Белкина», а также заново открытого в шестидесятые Л. Добычина, автора «Города Эн».
В прозе Довлатова существует, пользуясь выражением Б. М. Эйхенбаума, «слоговая устойчивость», соразмерное синтаксическое членение. Стиховая выучка. Когда поэзия как таковая «красивому, двадцатидвухлетнему» стихослагателю не удалась, он находчиво превратил ее в школу для прозы. И в этом отношении Довлатов напоминает не Маяковского, а Набокова, овладевая сходным с обозначенным в «Даре» опытом: «…он доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его…»
Читать дальше