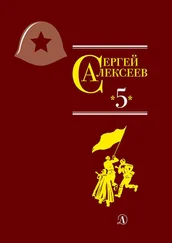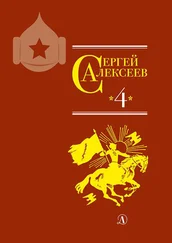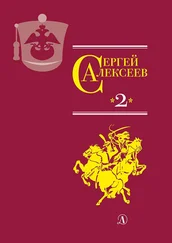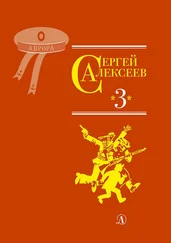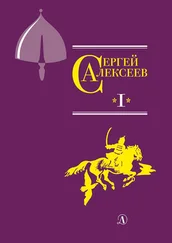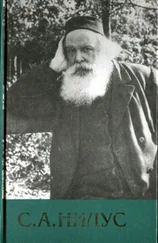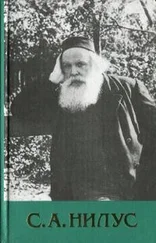Взгляд художника царапает жизнь, а не скользит по ее идеологизированной поверхности. Довлатов был уверен, например, что строчка из «Конца прекрасной эпохи» Бродского — «Даже стулья плетенью держатся здесь на болтах и на гайках» — характеризует время ярче и убийственней, чем обнародование всей подноготной Берии.
Социальная критика в искусстве грешит тем, что едва проявленный негатив выдает за готовый отпечаток действительности и творит над ней неправедный суд. Там, где общественное мнение подозревает в человеческом поведении умысел и злую волю, Довлатов-прозаик обнаруживает живительный, раскрепощающий душу импульс.
Неудивительно, что он питал заведомую слабость к изгоям, к плебсу, частенько предпочитая их общество обществу приличных — без всяких кавычек — людей. Нелицемерная, ничем не защищенная открытость дурных волеизъявлений представлялась ему гарантией честности, благопристойное существование — опорой лицемерия. Симпатичнейшие его персонажи — из этого низкого круга. Заведомый рецидивист Гурин из «Зоны» в этом смысле — образец. Нельзя не вспомнить и «неудержимого русского деграданта» Буша из «Компромисса», и удалого Михал Иваныча из «Заповедника». Почти всех героев книги «Чемодан», героиню «Иностранки»… Все они стоят любого генерала.
Аутсайдеры Довлатова — лишние в нашем цивилизованном мире существа. Лишние — буквально. Они нелепы с точки зрения оприходованных здравым смыслом критериев и мнений. И все-таки они — люди. Ничем не уступающие в этом звании своим интеллектуальным тургеневским предтечам.
Трудно установить, отреклись довлатовские герои от социальной жизни или выброшены из нее. Процесс этот взаимообусловлен. Тонкость сюжетов прозаика на этом и заострена. Довлатов ненавязчиво фиксирует едва различимую границу между отречением и предательством. Отречением от лжи. И предательством истины.
Большинство выявленных и невыявленных конфликтов довлатовских историй — в этом пограничном регионе. Они проецируются и на литературную судьбу прозаика. Как и на судьбу других изгнанных или выжитых из России талантливых художников застойных лет. Чаще всего не по собственному разумению, а под идеологическим нажимом они перебирались на Запад. Анонимные «вышестоящие мнения» имели тенденцию неуклонно закручиваться в конкретные «персональные дела». Аморальная сущность предпринятого натиска ясна. Ясен и смысл всех этих акций. Творческую интеллигенцию, отрекавшуюся от неправедных взглядов и действий, цинично зачисляли в предатели.
Чувствительность Довлатова к уродствам и нелепостям жизни едва ли не гипертрофирована. Однако беспощадная зоркость писателя никогда не уводит его в сторону циничных умозаключений. Это определяющая всю довлатовскую эстетику нравственная черта.
Я бы назвал Довлатова сердечным обличителем.
И не его вина, если способность высказывать горькую правду с насмешливой улыбкой так раздражает людей. Блюстителей порядка улыбка раздражает яростнее, чем сама истина в любом ее неприглядном виде.
4
Еще в бытность свою в Ленинграде Сергей признался как-то, что для него вполне обыденная реплика из Марка Твена — «Я остановился поболтать с Гекльберри Финном» — полна неизъяснимого очарования. Он даже собирался сделать эту фразу названием какой-нибудь из своих книг. Да и сам был склонен остановиться поболтать едва ли не с каждым, кто к этому готов. Беззаботная речь случайного собеседника влекла его сильнее, чем созерцание сокровищ Эрмитажа или Метрополитен-музея.
Относясь вполне равнодушно к материальным благам и вообще к «неодушевленной природе», Сережа очень любил всякие милые эфемерности, разбросанные вокруг человека, сроднившиеся с ним, — всяческие авторучки, ножички, записные книжки, цепочки, фляжки и прочие в пределах непосредственного осязания болтающиеся вещицы. Ими же он щедро делился со своими приятелями. И они же всюду поблескивают в его прозе.
Довлатов и сам был вдохновенным виртуозом беседы, и его герои проявляют себя преимущественно в диалоге. Через диалог высвечивается их характер, в диалоге сквозит их судьба. Судьба внутренне раскрепощенных людей в условиях несвободной, стесненной, уродливой действительности.
Слова у Сережи теснили дела и часто расходились с ними. Этот увлекательный перманентный бракоразводный процесс я бы и назвал процессом творчества. По крайней мере, в случае Довлатова. Жизнь являла себя порочной и ветреной подружкой словесности.
Читать дальше