На другой день мы отправились в путь на машине, и это стало началом нашего совместного путешествия к морю. Мистраль улегся, был мягкий, просторный зимний день. Среди каменистого ландшафта мелькали кое-где редкие средиземноморские пинии. У них есть свое особое имя: Pins parasol [2] Зонтичные пинии (лат.).
, — я узнал его от той женщины, и оно, рифмуясь с 1974 годом, превратилось в рефрен, который много раз потом повторялся. Оставляя их чуть в стороне, дорога сделала небольшой поворот. И тут (не «вдруг»), вместе с дорогой и деревьями, открылся мир. «Тут» — стало и в другом месте. Мир был твердым, прочным царством земли. Время стоит извечно и каждодневно. Открытость может становиться мной. Я могу пожелать, чтобы закрытость исчезла. Я должен спокойно пребывать и дальше во внешнем мире (в цвете и форме). Вина падет на меня только в том случае, если я, ввиду опасности снова замкнуться, добровольно откажусь от присутствия духа, длить которое можно всю жизнь.
В одном рассказе, который я написал полдесятилетия тому назад, земля, совершенно плоская и ровная, вдруг начинает дыбиться и подступает так близко к герою, что кажется, будто она сейчас его вытеснит. Передо мною же по-прежнему стоял совсем другой, не выпуклый, а вогнутый, растянутый, избавленный от давления и освобождающий тело мир 1974 года — мое открытие, которым я хочу поделиться: зонтичные пинии и радость бытия — вот единственная реальность, которая считается. Во всяком случае, зонтичные пинии оказались весьма полезными в тех случаях, когда внутреннее пространство чужих домов начинало вздыбливаться, словно вытесняя меня, — пусть это повергало то и дело саму персону того прежнего мира в рассеянно-растерянное состояние (в чем есть и своя собственная вина).
Неужели действительно только тогда завязалось во мне все это? Разве я не мог помыслить себе разумную радость уже много раньше, при виде других южных деревьев? А те темные кипарисы летом 1972 года в Югославии: что это было такое, что с каждым днем поддавалось все больше и больше, пока наконец у кого-то не распахнулись руки? (Сюда же относится и шелковица, в тени которой мы часто сидели, и белый песок под ней в сочных красных крапинках от упавших плодов.) Тогда произошло преображение. Тот человек, которым я был, стал большим и одновременно ему неудержимо хотелось оказаться на коленях или вообще лежать вниз лицом и быть для всех и вся — никем.
Преображение было естественным. Это было желание примирения, которое, говоря словами философа, проистекало из «алкания алкания другого», и это желание казалось мне реально-разумным, так что я решил отныне считаться с ним и при работе с текстом.
Вместе с тем это были скверные времена. (Моя мать, движимая страхом смерти, взывала о помощи и слала письма, на которые я не знал что отвечать.) Мне ничего не оставалось, как снова начать прорисовывать взглядом на зелени кипарисов магические знаки, какие вырезают на деревянных саркофагах. «Погружаться в каждую вещь, как в сон» — эта максима писательства прослужила довольно долго: представлять себе постигаемый предмет так, словно видишь его во сне, будучи уверенным, что только там он является во всей своей сущности. И тогда предметы обстают пишущего тихой рощей, из которой уже трудно выбраться в жизнь. Он видит сущность вещей, это правда, но только не может ее никому передать; он упрямо пытается ее удержать, но одновременно теряет уверенность в себе. — Нет, магические картины, — включая и узоры в кипарисах, — это не те картины, которые мне нужны. В своей сердцевине, внутри, они заключают отнюдь не мирную пустоту, в которую я уже никогда не вернусь по собственной воле. Только вовне, в красках дня, — только там я есть я.
Государство называют «суммой норм». Я же считаю себя приписанным скорее к царству форм, нежели к иному правовому порядку, в котором «подлинные идеи», как говорит философ, «совпадают со своими предметами», а каждая форма наделена властью примера (даже если сами художники в современных государствах являют собою «полутени, а нынче, в настоящую эпоху, и вовсе превратились в бессущностные призраки»).
Но что дает право человеку на то, чтобы принимать личное участие в жизни этого царства? Приступая к каждой следующей работе, я снова и снова задаюсь этим мучительным вопросом и не могу отделаться от мысли, что я всего лишь навсего молчаливый, симпатизирующий читатель. Только один-единственный раз я почувствовал, что у меня есть право — еще до того, как что-нибудь написать. Я узрел тему, а вместе с нею и вожделенную «книгу», и книги. И произошло сие не во сне, а ясным солнечным днем, и никакого растворения в южных кипарисах: я — тут, предмет описания — там. Мы ехали среди низких холмов, по довольно прямой проселочной дороге, воскресным днем позднего лета, и было это в Верхней Австрии. Дорога была пустой. Только один раз по другой стороне прошел человек в белой рубашке и черном костюме. Брюки у него были широкие, и штанины болтались при ходьбе; когда мы потом возвращались обратно, этот мужчина все еще продолжал идти, — он шел, в болтающихся брюках, с расстегнутым пиджаком, воскресным днем, в Верхней Австрии, мне на радость. — Моему «я» из первой книги при виде этого идущего куда-то человека представилось, будто он стремится к людям, которым он собирается что-то сказать. Он внедрится в самую их гущу, обрушит на них громы и молнии и убедит их. Не получается ли так, что ничего нового не завязалось вместе с пиниями 1974 года, а, скорее, наоборот, что-то вернулось, — то, что я, радуясь узнаваемости, сопряженной с возвращением, мог обозначить как «подлинно реальное»?
Читать дальше
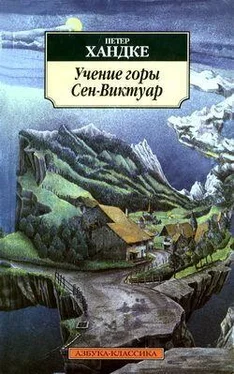



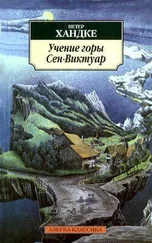
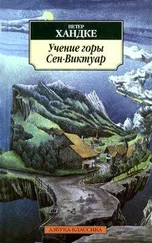
![Петер Хандке - Женщина-левша [litres]](/books/397994/peter-handke-zhenchina-levsha-litres-thumb.webp)

![Петер Хандке - Уроки горы Сен-Виктуар [litres]](/books/433702/peter-handke-uroki-gory-sen-viktuar-litres-thumb.webp)



