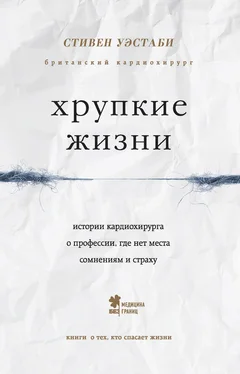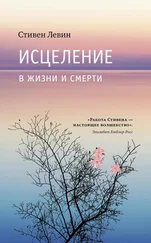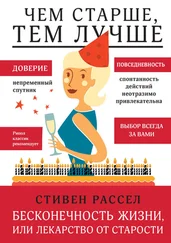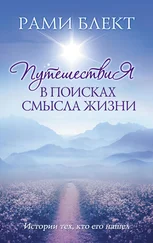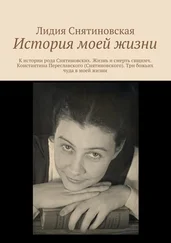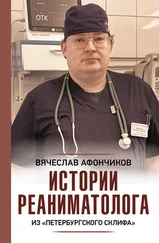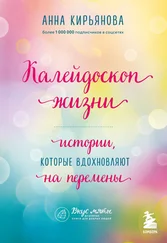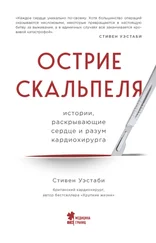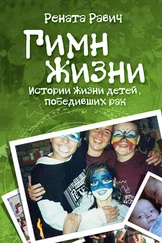После этого Стефана вновь отвезли в педиатрическую палату интенсивной терапии, где врачи и медперсонал впервые в жизни увидели вспомогательную желудочковую систему. Приборы могли напугать медсестер, но этого не произошло. Им сказали не обращать внимания на трубки и кнопки управляющей консоли, а также объяснили, что ничего менять не нужно. Все, что требовалось от медсестер, – позаботиться о мальчике, особенно когда он придет в себя и начнет активно двигаться.
Мы подчеркнули, насколько важно проследить, чтобы Стефан не выдернул из себя трубки: от них зависела его жизнь. Когда он очнется, лучше всего его усадить, отключить вентиляцию легких и удалить трахеальную трубку, чтобы хоть немного снизить дискомфорт. После этого будет гораздо проще его успокоить и все ему объяснить. Родителей можно пустить к нему, а Дезире будет неподалеку и всегда придет на помощь, даже когда ее смена закончится.
На этом немцы покинули Оксфорд, оставив нас самостоятельно управляться с новой техникой. Не проблема, тем более что состояние Стефана быстро улучшалось. В мочеприемник потекла моча, и мальчик – как мы и ожидали – проснулся ранним вечером, после чего трахеальную трубку убрали. Он злился на всех – даже на свою несчастную мать, – но зато порозовел, на его щеки вернулся румянец, а ноги и ладони, которые крепко сжимали родители, были теплыми. Просто Стефан не испытывал особого восторга от «чужих», что, выходя из его тела, пульсировали прямо у него под носом: бесценные, спасающие жизнь приборы, способные при этом не на шутку перепугать ребенка.
Шли дни, и мне не терпелось узнать результаты биопсии, чтобы продумать следующий шаг. С «берлинским сердцем» Стефан мог продержаться несколько недель, а возможно, и месяцев, но восстановится ли его сердце? Я в этом сильно сомневался, так что следовало позаботиться о пересадке. От природы крайне любопытный, я не выдержал и сам отправился в лабораторию, где попросил показать мне окрашенные образцы тканей, взятые у Стефана и Джули. Я всегда проявлял повышенный интерес к своим пациентам – собственно, поэтому я никогда не пропускал вскрытие тех из них, кто в конечном счете погиб. Лаборанты знали меня достаточно хорошо и всегда радовались возможности узнать мое мнение.
Сердечная мышца Джули была густо пронизана белыми клетками крови – лимфоцитами, которые участвуют в иммунной реакции на вирусную инфекцию. Вирусы слишком малы, чтобы их можно было разглядеть в световой микроскоп, но по лимфоцитам всегда можно понять, есть инфекция или нет. В этом образце обнаружились миллионы лимфоцитов, мышца распухла и отекла вследствие воспалительного процесса.
Со Стефаном все было иначе: я увидел такое, что никак не рассчитываешь обнаружить в сердце десятилетнего ребенка. Большая часть сердечной мышцы оказалась замещена фиброзной тканью, но произошло это не в результате нарушенного кровоснабжения. К тому же никаких лимфоцитов не было. У Стефана действительно развилась идиопатическая дилатационная кардиомиопатия – долгосрочное увеличение сердца без явной причины, и одним только отдыхом проблему не решить. Мальчику чертовски не повезло. В случаях Стефана и Джули имелась лишь одна общая характеристика: мы успели вовремя вмешаться. Еще чуть-чуть – и обоим не удалось бы помочь. Итак, дальнейший ход событий стал очевиден: Стефану не обойтись без чужого сердца.
В те дни, равно как и сейчас, ни одна больница и ни один хирург в стране не могли самостоятельно организовать пересадку сердца, даже если бы идеально подходящий донор с мертвым мозгом и пациент, нуждающийся в новом сердце, лежали на соседних койках. Требовалось неукоснительно соблюдать процедуру принятия решений и непременно обращаться в Трансплантационную службу Великобритании. А там в свое время решили – с целью оптимального использования дефицитных донорских органов и их равномерного распределения – упразднить категорию неотложных пациентов. Таким образом, в те дни донорские органы предоставлялись трансплантационным центрам в порядке строгой очередности. Многие из тех, кто получал донорское сердце, жили не в больнице, а у себя дома – подключенные, как и Стефан, к аппаратам жизнеобеспечения. Сейчас-то мы достоверно знаем, что большинству из таких амбулаторных пациентов пересадка практически не принесла пользы, многие и вовсе умерли из-за осложнений вскоре после операции. Драгоценные органы расходовались понапрасну, в том числе поэтому я так стремился найти альтернативу трансплантации. Более того, в случае проведения операции по пересадке донорского органа, полученного не по официальным каналам, отделение трансплантации, где это произошло, должно было отчитаться перед Трансплантационной службой, которая затем помещала это отделение в самый конец очереди.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу