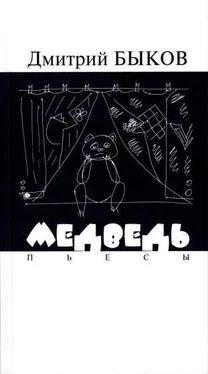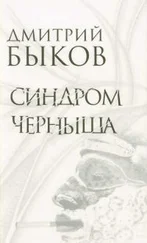Ж. Что, серьезно? Я думала, вы разошлись именно из-за… (Впервые за все время улыбается.)
М. Да ну, что за центропупизм! Свет не клином! Вообрази, я узнал об этом на следующий день после того, как проиграл выборы. Тут-то Барби мне и ляпнула, в лучших традициях. Как это — «Уж если ты разлюбишь, так теперь!»
Ж. Я никогда не сомневалась, что из всего Шекспира ты знаешь именно эту вещь.
М. Почему, я знаю еще «Быть или не быть», знаю «Дуй, ветер, дуй, пока не лопнет»… Что там у него должно лопнуть? (По-детски радостно хохочет.) И представь, — я сижу в отчаянии, в апатии, делать ничего не могу, жалюзи опущены, голова раскалывается, — и в порядке утешения она мне выдает свою коронку: «Боб, так и так, я никогда не любила тебя, но не стала бы подставлять ножку в твоей борьбе. В конце концов я тоже политик, я все понимаю», — слышь, Дженни, она мне говорит, что она тоже политик. Президент школьного клуба Фи Бета Каппа и патрон всеамериканской организации рукодельниц «Вышей сам». (Проводит рукой по лицу, продолжает после паузы медленно и серьезно.) Тьфу, черт. Я все еще говорю с тобой, как будто ты моя единомышленница. Ты чудесно слушаешь, Дженни, ты всегда чудесно слушала. Я забыл, что ты тоже никогда меня не любила. То есть там так написано. И я, наверное, не должен с тобой плохо говорить о ней. В этой истории она все-таки вела себя порядочнее, чем я, — о тебе уж и не говорю. Мне так нравилось говорить о ней всякое… тебе… за ее спиной. Эта была месть за двадцать лет чудовищно скучной жизни. Иногда мне бывало ее жалко, но тут я хорошо получил по носу. Ты понимаешь, я вдруг допер наконец, что нельзя никого жалеть! Вообще никого! Мы жалеем, снисходим, а тут бац! — и объект нашей жалости как врежет нам под дых, и жалеть надо уже нас. Я ведь и тебя жалел, веришь, нет?
Ж (спокойно). Верю. Ты всегда был очень жалостлив. Сейчас — особенно.
М. Да, да… трахаю и плачу… Да, так вот она мне и говорит: «Я тоже политик, и я никогда не подставила бы тебе ножку во время выборов. Но теперь, когда ты проиграл, мне бояться нечего. Мы с Кеном давно любим друг друга». Нет, прикинь, да? Приколись, баклан! Барби и Кен, да? Правда, к чести его, он ничего не рассказал о моей подноготной. Даже если знал. Все, что она говорила ему, — если действительно говорила, — осталось его тайной. Он вел себя как порядочный человек. Но подумай, каковы были его мотивы! Выходит, он меня топил… чтобы у нее были основания красиво развестись со мной! И чтобы они поженились, и весело укатили на свое ранчо, штат Атланта! Каков Кирджали? Дженни, я поседел за одну ночь.
Ж. Ты седел с тридцатилетнего возраста.
М. Ну да, но могу я себе позволить мелодраматическое преувеличение, черт возьми?! Мало ли их в твоей книге? Несмотря на весь хороший вкус? А твое разочарование в мужской природе, а то, как ты перечитывала Эсхила, чтобы набраться решимости?! Конечно, ни фига я не поседел, конечно, я пошел и страшно надрался, но надрался весело. Теперь я мог себе это позволить. И знаешь, я чувствовал, что нация, переизбравшая меня, втайне мне же и сострадает. В чем, в чем, а в ее психологии я разбираюсь получше многих. Они посадили себе на голову такого, что начали жалеть обо мне практически сразу. Я понял это, когда прислуга в моем собственном особняке, кухарка, которая приносила мне все новые и новые порции джина, подмигнула мне и сказала: вы сделали все, что могли, господин президент, и такие, как я, не забудут этого никогда! В конце концов, сказала она, то, что мой Билли не вылезает из Интернета, — это ваша заслуга, и спасибо вам за моего мальчика! Конец цитаты. Я нализался, я выгнал Барбару, дав ей наконец отменного пинка под зад, давно желанного пинка — ты не веришь? Ты не веришь даже, что я спущу курок в случае чего, а очень напрасно, Дженнифер, очень напрасно! (Становится суров.) По-моему, я тебе все рассказал. Если кто-то думает… (С угрозой смотрит в зал.) Если кто-то думает, что самое интересное произойдет под занавес, — этот кто-то совершенно не понимает законов современной драматургии. Все будет сейчас. Раздевайся, Дженни.
Ж. А… а с кем ты сейчас?
М. Я скажу тебе потом, если тебе все еще будет интересно. А вообще мне надоело, и публике, наверное, тоже. Сеанс стриптиза душевного плавно переходит в сеанс стриптиза телесного. Живо. (Достает пистолет, вполне настоящий, и передергивает затвор.)
Ж (высокомерно). Ты не сделаешь этого, Боб.
М (спокойно, но за этим спокойствием чувствуется основательная, даже веселая решимость). Я сделаю это, Дженни. И чтобы ты убедилась, что я не промахнусь, — а я ведь тренировался, Дженни, я готовился! — доказательство первое. (Стреляет в изящный светильник, разбивает его вдребезги.) Я обо всем позаботился, Дженни. Алиби. Тысяча приятных мелочей, даже не приходящих тебе в голову. В общем, на этот раз я кончу, все кончу. Ты думаешь, это для меня чисто ритуальный акт? Но я-то не еврей, Дженни, моя вера не так ритуализована! Я просто привык все доводить до конца. Мне кажется, что полоса неудач в моей жизни кончится только тогда, когда в ней кончишься ты. А покончить с тобой, извини, пожалуйста, можно только одним способом. Серьезно. Раздевайся, Дженни. В каком это было фильме? — я водил на него дочь, когда ей было двенадцать. «Последний киногерой», точно. Со Шварцем. Помню, я еще думал: что за вкус у моей девочки? Теперь, когда моя девочка полгода проводит в психиатрической клинике, а другую половину сидит дома, забившись в самый темный угол и трясясь от непонятного ужаса… нет, я не думаю, что виновата ты, Дженни. И Барбара тоже не виновата. Кому суждено рехнуться, тот рехнется. И все-таки я думаю: лучше бы она любила Шварца. Лучше бы она выросла простым и добрым ребенком, каких много. Дурой вроде тебя. Ты же дура, Дженни. Ты и вправду думала, что все это тебе так и сойдет.
Читать дальше