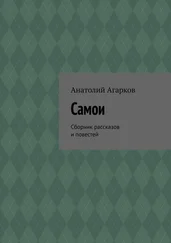Мы ещё постояли возле машин, прощаясь с гаснущим днём, поминая его добрым словом, кланяясь озеру. Карнак вздохнул, как бы освобождаясь от рыбачьего азарта, и сказал:
– Ну, слава богу, поймали маленько, и на том спасибо, Господи. И дай бог, чтоб завтра клевало.
Набело смывается в памяти случайное, будто слёзной байкальской водицей, и от зимней той рыбалки мало что запомнилось, но осело навечно ощущение полного, голубоватого, снежного покоя и безмолвия, когда наши утихомиренные, полегчавшие и осветлённые души парили в синеве вешней и дремотно нежились над спящим озером.
1987 год
Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен,
и тогда тысячи душ спасутся около тебя.
Преподобный Серафим Саровский
Лёша Русак собирался в тайгу порисовать – художник же, а попутно и брусники, черники набрать – таёжник, в тайге родился и вырос, хотя давно уже горожанин, иркутянин.
– …Опять ты в тайгу наладился?! – привычно, абы уж отвести вечно переживающую душу, корила мать великовозрастного, беспутного сына, подсобляя тому уложиться в путь-дороженьку, скорбными глазами присматривая, как сын суетливо и раздражённо, потея и краснея набыченной шеей, пихает в заплечный вещмешок мало-мальские харчишки и запасную одежонку, замызганный красками этюдник и стоящий коробом от налипшей краски, брезентовый мешочек с художническим скарбом. От брезентового сидорка, добела выжженного солнцем, чиненого-перечиненного, кажется, уже тёплыми, миражными волнами плывёт смолистый сосновый дух.
– Природу нюхать? – со вздохом покосилась мать на видавший виды сидорок.
– Её, матушку… – выжал смущённую улыбку сын, поморщился и пуще покраснел, словно виноват: он-то убегает в тайгу от житейских хлопот, сжигающих душу подобно легиону бесов, и будет счастлив в таёжном храме, а мать останется в городе, обойдённая таёжным счастьем; будет одна куковать в каменном мешке, долгими часами высиживая на лавочке возле подъезда, вяло от жары и приторной асфальтовой духоты судача с товарками, с такими же маломощными старушками, многие из которых, как и она, покинули родные деревеньки, чтобы скоротать век подле детей.
– Да сходи, сына, в овраг …за домами сразу… полынки нарви и нюхай свою природу, нюхай, хоть занюхайся, – через силу улыбнулась мать, и в глазах ее, заморгавших от приливающих слёз, сизо притуманилась печаль. – Может, глядишь, и полегчает, – полынка, она, паря, шибко пахнет, за версту слыхать. И незачем будет в эдаку даль переться, ноги да время убивать… От тоже блажь-то, а… Носки-то, носки-то овечьи положи, не забудь, – тут же заботливо спохватилась мать.
– Да у меня на ногах тёплые носки – хватит, куда мне их, солить?! – отмахнулся сын, уже сопревший от долгих сборов. – Ты бы мне ещё ватное одеяло завернула и подушку…
– Ничо, ничо, сгодятся запас карман не тянет.
– Куда ложить?! И так уж мешок полный.
– Положи, положи, не задавят. А там мало ли что: ноги промочишь – на ночь сухие носки оденешь, да и ночи-то студёны… Илья отошёл, бросил в озеро подкову, и вода остыла. О таку пору мы уже и не купались, не – остывала вода… Ой, беда, парень, с тобой, бединушка… Хошь бы уж поясницу пожалел, опять загинаться будешь, идол окаянный. И каку холеру ты в тайге творишь, ума не приложу…
– Порисую, попишу…
– А зачем с ночевыми-то?! Обыдёнкой бы сбегал за город да и нарисовался досыта – за городом лес тоже бравый, с листьями…
– Не люблю я обыдёнкой: к обеду добрался, а вечером назад топай – дорога сплошная; а с ночевой в тайге – красота… Попутно и брусницу буду брать…
Чтобы не дразнить мать, не пугать сибирскую крестьянку, недавно ставшую горожанкой, иркутянкой, и по деревенской породе не терпящую праздности в тайге, сын не стал договаривать самого заветного, что просто будет жить в тайге коротенькое отпускное времечко. Просто будет ходить, часами сидеть на замшелых колодинах в глухой урманной тайге, сидеть и слушать мягкую хвойную тишь, пахнущую груздями, прелью лоняшней травы, мхами, чушачьим багульником, можжевеловым духом. А вечерами, прихватывая ночь, будет полёживать на сухом облыске под матёрой сосной и, подживляя сучком костерок, станет слушать, как бурчит в глухом распадке ключ, то выныривающий среди кочек и высоких кустов голубичника, то опять пропадающий под землей. Скрадывая лешачье ворчанье ключа, будет следить омороченным взглядом, как растут и опадают синеватые лопухи огня, ласково и вдумчиво обнимая прикопчённую медную манерку, где уже запохаживала омутно, по-комариному засипела бочажная вода, и вот-вот можно будет заваривать крепкий чай с брусничным листом и шиповником. И вдруг падёт на ум непостижимо простенькая, ясная мысль: «Господи ты мой милостивый, всюю-то жизнь бы вот так прожить! А то бегаем, носимся, словно с цепи сорвались, бьёмся, хлещемся, как рыба об лёд, а зачем, почему – бог весть. Поди, оттого и носимся как угорелые, чтобы сжечь век по-быстрому, света божия не видим, устаём бегать в потёмках, избитые, изволоченные. Да так и сжигаем век, не поняв, на какую потребу отпущена была жизнь и в чём счастье».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Анатолий Байбородин Деревенский бунт [Рассказы, повести] обложка книги](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-cover.webp)



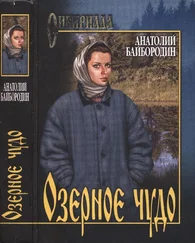

![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/books/216144/anatolij-zemlyanskij-posle-grada-malenkie-povesti-thumb.webp)
![Анатолий Гаврилов - Берлинская флейта [Рассказы; повести]](/books/228661/anatolij-gavrilov-berlinskaya-flejta-rasskazy-pov-thumb.webp)
![Анатолий Алексин - Мой брат играет на кларнете [Повести и рассказы]](/books/397351/anatolij-aleksin-moj-brat-igraet-na-klarnete-pove-thumb.webp)