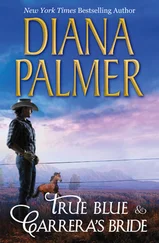Он больше не мог быть легкомысленным и необязательным — и в этом была своя скорбь. Он не мог увлекаться, не мог ранить Оксану, не мог быть слабым. Именно теперь она держалась за него. Женщинам нужны лишь те, кто мог бы их спасти (от самих себя). Крепко взять и вывести из опасного места. Может быть, в этом весь смысл жизни. В этом что-то есть. Пока он не видел ничего другого.
А в это время соседи сверху, сменившие старушку, этакую палеевскую Аннушку, со стуком шагали по потолку, высоко поднимая ноги.
Вернувшись домой он лег на диван, но не с удовлетворением, как Обломов, а с чувством разочаровавшегося в себе Штольца.
Сделав все, что надо, добившись своего, он растратил все силы. И просто не имел мыслей — как жить дальше? Он боялся жить прежней жизнью, опасаясь рецидива, да и не желая вовсе — писать, того, чем он беспрерывно, хоть и без внешнего успеха, занимался уже пятнадцать лет подряд. Он должен был зарабатывать деньги и, в общем, был готов к этому, но ничего не предпринимал. Ему уже было не больно. Даже боль не наполняла его. Там ничего не было. Скука, “философское” ожидание далекой смерти. Захар боялся, что бесстрашие сменится легкомыслием, мудрость и боль — незамысловатым весельем и легкой развлекаловкой.
Какой же результат? Что достигнуто? — Он был у края своей силы и созерцал его. Он знал все, что касалось того, что ему делать и как себя вести. У него почти не было сомнений. В том — как действовать. Лишь — зачем? Теперь он знал — зачем. Он и здесь, наверное, не ошибся. Если бы занять этой силы на карьеру. Но это невозможно, так как сила дается тому, кто действует бескорыстно. То есть до предела эгоистично: жизнь — смерть.
Теперь главное было — не раскиснуть, не сделать ошибок прежней жизни. Когда вяло, без жертв, без оголтелого броска вперед, может быть, никуда…
Нельзя было рассчитывать лишь на ее “сознание вины”, нельзя было злоупотреблять ее смирением и поддаваться на уговоры “писать”. Какое-то время он был таким, о каком она мечтала. Таким он и должен остаться. Благо, ничего ценнее ее у него теперь не было.
Утром Оксана сказала:
— Мне приснился ужасный сон. Будто я под черную юбку надела мои черные джинсы, под джинсы колготки, а потом еще надела черные туфли на высоком каблуке. Представляешь, какой кошмар!
Так много черного: даже уходить из дома страшно.
Лицо Даши — напряженное и застывшее (из-за детей, которых они взяли с собой на корт: Лизку и ее подругу): почти некрасиво. Она встречалась с Захаром тайно от Артура. Это ему мало льстило. “Измена” родила мышь: они просто играли в теннис.
Из-за ее настроения Захар тоже скис. Солнце било в глаза, игра не клеилась. Сменили корт. На новом месте было сумрачно и гораздо больше осени и опавших листьев, среди которых скакал мячик. Захар расслабился, и игра стала лучше, хотя корт был непривычный, грунтовый.
Потом они гуляли по дорожкам заросшего, как парк, спорткомплекса.
— Я чувствую, что теряю форму, — вдруг сказала Даша со своей привычной грустной усмешкой.
“Теряла” она ее скупо. Но, может быть, отчасти была права, если “форма” — очаровывать на мах. Если форма — невозмутимо следовать прихотливому рисунку жизни.
— Да нет, кое-что осталось, — попытался утешить Захар. Он оценил несвойственную ей жалобу.
Да, она была слаба, как все женщины. Как все люди. Она дошла до того, что стала с ним обсуждать вечные, как смена времен года, проблемы с Артуром, этим жутким Артуром, который не хочет жениться, но и не отпускает ее.
Захар верил, что она страдает, но не совсем верил в то, из-за чего она страдает: не было пары, которой такое существование подходило бы больше: два свободных человека, живущие лишь ради себя и своего дела. Очень красивая, очень современная, очень европейская пара. Никаких столкновений из-за детей, денег, потерянного телефонного счета, незакрытого тюбика с пастой. У каждого свой дом, своя жизнь, свои скверные привычки, не понуждаемые ни ради кого к мутации. Встреча с любимым, как праздник, возможность видеться, лишь когда хочется любви, как пить, лишь когда наступает жажда. Носить зонтик лишь в дождь, а не круглые сутки, не все дни подряд. Что может быть лучше?
Потом они говорили о Лизке, о других людях, о любви вообще в том ключе, в котором каждый из них был способен ее понимать. Они никогда не говорили о себе. У них хватало совести и разумности ничего не вспоминать и ничего не выяснять.
Захар не спешил и подошел очень близко — откуда хорошо видны достоинства и недостатки. Ни одна женщина не выдержит пристального разглядывания. Он заглянул за пелену очаровательного тумана: духов, смеха, голоса… Наша беда — это недостаточность. Мы все одинаковы: хотим, но не можем дотянуть до идеала. Ее было жалко. Ему всех было жалко. Даже Артура. “Мне и так хорошо. Я патологически спокоен,” — убеждал он себя.
Читать дальше