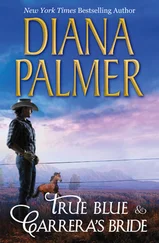Старая жизнь и старая любовь умерли. Рассчитывать ли ему теперь на новую? Или искать новую любовь с кем-то другим? Но, как сказала Даша в приватной беседе с Оксаной: ему нелегко будет найти другую женщину. Скорее всего — невозможно. Вот он и цеплялся за старую.
Снова в ванной, как Марат. Лежал долго-долго, до полного остывания воды. Никто не дергал дверь, не торопил, как не торопят, когда ищут вену для вмазки.
Думал, что любит ее как свою антитезу: она светлая, он темный, она широкая, он узкий, она экстравертка, он интроверт. У нее нет средних состояний — депрессия или восторг. Поэтому любит середину. Он человек середины, и поэтому любил, проповедовал — крайности, ненавидел компромиссы. Она естественный человек, он — искусственный. Она тонкий, он — изломанный…
Она говорила, что в этой ситуации никто не проявляет себя альтруистом. Живя с нелюбимым — она, поэтому, наибольший из них альтруист. И опять давала ему это понять. Она приносила жертвы богам гуманизма. Как он это все ненавидел! Как бы он хотел избавиться или заставить ее полюбить себя! Отчасти все-таки она его любила, ибо переживала, подходила просить прощения…
— Тебе очень плохо? — спрашивала она. — Я очень тебя мучаю?
Захар напомнил ей фразу из Заточника, про бел хлеб и ум свершен. То есть — польза. Ей эта ситуация не давала ничего.
— …Лишь понимание, что быть счастливой невозможно, потому что жизнь одного человека не ценнее жизни другого.
— То есть?
— То есть — я не готова платить твоей жизнью за свое счастье.
— Ты не волнуйся, я и сам уйду. И нам альтруизм не чужд. А главное — не могу жить нелюбимым.
Пока рядом — как-то не видно. А каково будет вдали?
Лежал в ванной и думал, что он все еще не может стать настолько сильным, чтобы не думать о себе. Он все еще может бросить в разговоре: “Зарабатывать деньги — это вульгарно”. Причем он с удовольствием устроился бы куда-нибудь в редакцию — рожать концептуальный понос, а предлагали — торговать коврами. Для аристократа у него слишком мозолистые руки.
А, может, и не стоило лезть в это околокультурное дерьмецо? Переживать и тратить себя из-за пустяков. Но со свободной головой — торговать или валять дурака…
Ванна и для нее… (как гроб и как дом). Он слышал, как она спускала и вновь набирала воду. Наверное, рыдает. Не о том, что сделала с ним и с собой, а о том — чего не сделала.
Ситуация все время требовала от него силы. Он не мог позволить себе выть и отчаиваться. Но никакого прогресса, ничего не менялось. Наверное, надо было действительно уехать — чтобы понять. Может быть, раздельно они смогли бы сделать какие-то шаги. Куда-то…
Он прямо видел, как память умирает, покрывается пылью; как то, что было живым, становится мертвым. Каков срок жизни воспоминаний? В этом беспамятстве и было исцеление. Вообще, как много прошло и как много изменилось.
Два дня она не отрываясь читала роман друга, откуда-то выплывший и, видимо, не попавший в число сожженных рукописей (они, как известно, не горят). А утром в постели слезы. Тогда (в воскресенье) он точно решил уехать. О чем она и узнала по его возвращению с рынка (купил кое-что для ремонта стен, но не всей кухни — раз времени для этого у него уже нет).
— Соответственно, и в Питер, как ты понимаешь, я не еду.
Оксане дали задание проинтервьюировать Стрижака — любимого писателя друга. Это и было формальным поводом рвануть в Питер. Ну, и развеяться. Это развеянье готовы были даже оплатить: вернуть деньги за билеты — друг очень добр.
Снова слезы, очередное долгое выяснение отношений. Захар дал ей денег на билет. Перед его уходом с ней истерика. Почти такая же, как два месяца назад, забитая коктейлем сонапакса и элениума. Следовательно, он остается, и они едут в Питер. Более того — на машине (предложил как соломинку, как ребенку игрушку: загорелась, подействовало, стала смеяться сквозь слезы, обнимать его). А там будет видно. (Ничего не будет видно!)
Придя в себя, сказала ему любопытную вещь: она вспоминала его недостатки — потому что так ей было удобней: обосновывать необходимость разрыва. Ей больно представить любой его уход. Один раз она уже пережила его. Но у Захара больше не было сил. Неделя или две — посмотрим…
На следующий день он свалился с легкими: маниакально работал в кухне: разобрал печь и часть стены в их старинном доме. Это тоже помогало, как ванна. Накануне гулял с Лёшей, говорили о приезжающем Наумове. Зашел к Тростникову и дал свою повесть (это было последнее, что он успел написать). Вечером заходила Даша.
Читать дальше