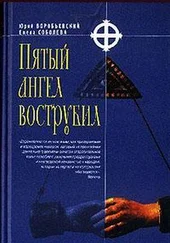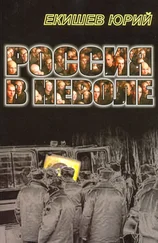— Стоишь? Ждешь?
И ударил неуклюже топором — всегда, пока привыкнешь к чужому топорищу, чужому размаху, нужно время, чтобы преодолеть какое-то тупое, ватное отвращение, как болезнь.
— Так ты не хочешь? Не хочешь… — разделывал я серую тупую тень, пока не завалил ее набок. Сухостоина, падая, разломилась на три части, и я, опомнившись от злой ярости, успел отскочить. А то можно было попасться, как легко попадаются новички в тайге, круша и давя тракторами покорный с виду лес — прут вперед, кажется им все легче легкого: наступил железной тушей, и оно обязательно подастся, сникнет, подобострастно хрустнет. А однажды стукнешь в сухостоину, уж куда смиренней и податливей, — на, бери, владей, тюк ее — и по закону физики, оказывается, она ломается на три части, две падают перед тобой, а третья в это время летит вертикально, сверху вниз, и прошивает насквозь кабину трактора, вместе с тобой, как консервную банку — пымс! — и нет тебя…
Мы видели такое раньше, подобное, не раз, когда лазили с пацанами по лесосекам, узнав о несчастном случае, — нарочно, чтоб посмотреть, страшно и наглядно, пялились как на опыт в учебнике: не суйся туда, куда не знаешь, о чем понятия не имеешь, ни с чем, ни с какой броней — не поможет.
Я вогнал топор в комель и притащил бревно к избушке. Солнце садилось. Я разрубил бревно еще напополам и собирался уже разжечь костер, но вдруг очнулся. Закат разлился вокруг неимоверным светом. И та сила, которая в поселке, или где-нибудь в другом месте, могла показаться красивой — вдруг пронзила меня насквозь, так что стало очень больно и потекли слезы: ни в чем не было препятствий, и красноватые лучи света были везде, всюду, в том, что я видел и не мог видеть. Мне срочно надо было домой, туда, в поселок, к ним, к Игорю и в особенности к Лене, к ее взгляду, голосу, падающим на плечи волосам. Надо было так срочно, что я готов был бежать, но бежать было нельзя: осенней ночью в тайге и без дороги не потеряться было бы чудом. Этот закат был и крушением чего-то неизвестного мне, и моей уходящей силой и теплом, и глупостью, и ясным последним посланием и предупреждением: день, спаленный мной, прогорел и сломался посредине, и обуглился, и упал передо мной, и две его части были видимы, а третья летела и должна была обрушиться прямо на меня и убить, и ничего нельзя было поделать — даже с закрытыми глазами темнота оказывалась не черной, но красной и разлитой повсюду. Наверное, так я рождался, как в эти застывшие мгновения, или так буду умирать — то, что происходило, было вне меня, со мной, связанное со мной, и в то же время надо мной — я родился и умер, а это все останется на тысячи лет — непойманная рыба, закат, красноватая рябь по всему живому маленькому круглому озеру.
Я плакал очень долго, окончательно смиряясь, что я бесконечно меньше всего, что происходит вокруг, что всё — не для меня: мир, поселок, Лена, долгое бесконечное падение солнца.
Я — как слепой, как на том свете, как серая тень среди всего живого — стал все-таки что-то делать, но очень осторожно, чтоб окончательно не растаять. Развел небольшой костер, вскипятил кружку чаю, затопил печку в охотничьей баньке, принес немного пихтового лапника и лег на ветки, стараясь ничего не потревожить и не расплескать: свою смерть, свой первый крик, бросок за пепельно-золотистой мушкой, что-то еще, подобное им, связанное со вчерашним безумием или с Леной. Все, что я мог придумать раньше или о чем мечтал, — не шло на ум, да я и сам легко отгонял привычные помыслы, настолько они были ничтожными, поверхностными, будто сухие соринки в холодной сильной осенней струе воды. Я просто ждал, будто кто-то войдет в дверь, осторожно и тихо, или что-нибудь произойдет, внутри или снаружи.
Утром я проснулся от холода — ночью я не вставал и не подбрасывал дров в печку, а зря — ударил заморозок. Кругом все застыло, вчерашний чистый закат обернулся первым морозным утренником и новой кровью — иголки лиственниц сбились в комки и за ночь покраснели, прихваченные сильным инеем, — все это были последствия вчерашней огненной смерти.
Я, не торопясь, собрался, выпил на дорожку кружку кипятка и пошел в поселок, отмечая по пути только одно — как по тайге прошлась эта ночь и какие следы оставила она на всем: на дороге, на траве, на деревьях.
В поселке было необычно тихо. Я вошел в дом, разделся, меня встретила кошка, всегда знавшая — где я и откуда иду. Я отломил несколько харюзиных голов от комка рыб, смерзшихся за ночь в рыбацкой сумке, и кинул ей, и она стала греметь ими по полу, стараясь прижать лапой. Наконец, вышла мама, какая-то смятенная и, мне показалось, заплаканная. Она достала из-под стола обычный тазик для рыбы: нельзя нарушать такую минуту ничем, ни злостью, ни горем — ради этого мгновения я часто бегом бежал домой, похвалиться, что поймал больше обычного. Но на этот раз хвалиться было нечем, но мама все же сказала:
Читать дальше