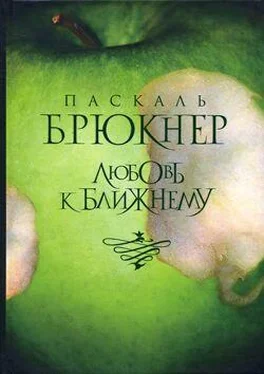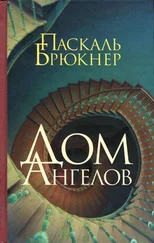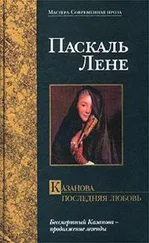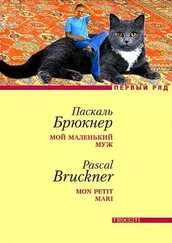Рано утром Жюльен позвонил с извинениями: он вспылил по глупости, проявил грубость и обидчивость. Он еще раз попросил меня ничего не рассказывать о том, что я увидел. Он запинался, искал слова, словно хотел заговорить о чем-то совершенно другом Наконец Жюльен повесил трубку, произнеся загадочные слова:
– Я страдаю и из-за вас, потому что очень вас люблю…
Его пафос добил меня. Потом мне звонили все остальные, и каждый на свой манер распинался, до чего нежно ко мне относится. Согласно распространенной Жан-Марком версии, двоих мерзавцев обратил в бегство именно я. Меня смущали эти незаслркенные поздравления. Фанни подробно поведала мне о своем примирении с Жюльеном: он просил у нее прощения с таким юмором, что она согласилась на адвоката, отказавшись от женщины – комиссара полиции.
– Сам знаешь, ему никто не может сопротивляться.
В этом она ошибалась. Меня Жюльен разочаровал. Он долго нас дурачил, разыгрывая уверенность в себе, но теперь с этим покончено. Отныне он был недостоин роли, которую придумал себе. То, что я о нем узнал, неминуемо должно было отдалить нас друг от друга вернее, чем политические разногласия. Я сразу испытал едва ли не облегчение: теперь я мог взлететь на собственных крыльях. Ушла в прошлое необходимость добиваться одобрения этого заблудшего мелкого тирана, как и чьего-нибудь еще одобрения. Все вместе мы составляли один организм, в котором присутствовали свойства каждого. Но это единое тело меня стесняло, во мне исчерпался тот порыв, который сплачивал нас прежде, то стремление проживать наши жизни в едином стиле, сгорать на внутреннем огне. Всякая дружба имеет пределы, всякая семья – тюрьма, всякий брак – заточение. Если бы только мои товарищи смогли на мгновение забыть меня, как шляпу на стуле!
Я обращаюсь в другую веру
Есть у супружеской жизни одно замечательное достоинство – она ограждает нас от всего. Даже от любви. Моя совместная жизнь с Сюзан не была избавлена от рутины. Вот уже десять лет я наслаждался семейным счастьем, и вкушение день за днем одного и того же блюда, пусть даже царского, будило во мне мечты о разнообразии. Как все прочие мужья, я из-за своей верности, а вовсе не под воздействием ножа хирурга, превращался в евнуха. Упрекать Сюзан было не в чем: она неизменно оставалась безупречной, внимательной. Если бы я заболел, она ухаживала бы за мной с восхитительной преданностью, я полностью ей доверял. Но, занимаясь любовью, мы словно хранили целомудрие: секс больше не становился волнующим событием, он был в порядке вещей. Мы проделывали все необходимые процедуры чинно и нейтрально: два довольных каплуна, все позабывшие, даже свои первые волнения. Собственно, меня это положение устраивало: я предпочитал вялость банальной приязни крайностям страсти. Я человек порядка, а вовсе не бунтарь. Моя любовь к порядку просто не знает удержу. Даже моей разнузданности присуща определенная методичность.
Что до моих детей, то эти негодники лопались от здоровья, а их живучесть означала мое вырождение. Они сталкивали нас в могилу, рядом с ними мы попросту доживали свой век. Они без удержу пререкались и дрались со своими приятелями, такими же грязнулями и засранцами, как они. Их комнаты походили на пещеры пиратов, набитые добычей: всеми эти плюшевыми игрушками, машинками, мечами, прочим барахлом – дарами нашей родительской доброты. Они занимались бессовестным вымогательством, учиняя форменный грабеж наших кошельков, только чтобы свалить подарки в кучу и сразу о них забыть. Как на них за это сердиться? Они играли свою роль маленьких царей мироздания. Дочь Забо была моей любимицей потому, наверное, что, в отличие от старших братьев семи и восьми лет, маленьких сюсюкающих грубиянов, оставалась еще настоящим ребенком Перешагивая границу своей спальни, эта миниатюрная завоевательница в платьице с оборками отправлялась на штурм бескрайнего мира. В этой обезьянке меня восхищало все: хрупкое, но ладное тельце, кривлянье, волосы – шелковистый факел, который ее мать во время купания обматывала полотенцем, мягкий пушок на ее шейке и грудках – двух вулканах, смиренно ждавших извержения. Однажды, когда я качал ее на качелях, она изрекла:
– Знаешь, папа, сегодня я тебя очень люблю.
Это признание тронуло меня, оно свидетельствовало о зрелости чувств. Да, мы любим ближних, но не каждый день и не одинаково. Вот бы уметь по своему желанию испытывать чувства и освобождаться от них! Забо владела наукой чувств, которую большинство осваивает в лучшем случае лишь после тридцати лет.
Читать дальше