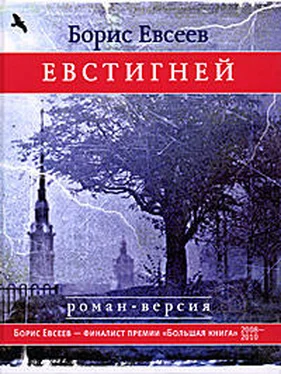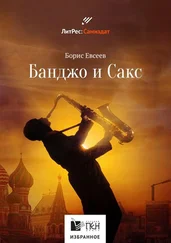«Боже, не отвержи мя во время старости», — запел Евстигнеюшка из Духовного концерта, сочиненного когда-то Березовским. Запел тихо, истово, запел летящим, плотного весу баритоном, запел италианскому гомону наперекор свое, русское...
Внутри посветлело. Да еще и небывало гармоничное сочетание русских мелодий и италианского гомона, русских слов и попевок италианских — удивило до невозможности!
Падре Мартини обучал смиренно, обучал с любовью. Обучал не одних лишь избранных, а и многих того пожелавших. Обучал малоспособных и озаренных гением. Заносчивых и покорных. Немцев, итальянцев, горбоносых хорват, белокурых чехов.
Разницы меж ними старался не делать. Да этой разницы — что в каждого Всевышним вложено, то он в ученье и раскрывает — и не было.
Впрочем, в одном случае разительное отличие все ж таки было.
Моцарт!
Не старший — себе на уме, жадноватый и лицемерный, — а младший, трепетный и бесхитростный Амадеус.
Обучать юного Моцарта, кроме правил двойного контрапункта, было нечему. Сам у него ежечасно учился. Впервые поручив Моцарту-младшему сочинение пятиголосной фуги, падре уразумел: с посланцем Божиим предстоит иметь ему дело!
Юный Амадеус сочинил фугу с той быстротой, с какой она могла быть записана. Падре глядел на побелевшие от напряженного письма пальцы — сочинять полагалось без проигрывания на клавикордах — и думал об отце мальчика.
Было ясно: с музыкой маленький австрияк сможет сотворить все, что захочет. Так зачем же родной отец гонит его и понукает, изнуряя целодневными занятиями?
При случае францисканец заглянул в глаза Моцарту-старшему: жаркий азарт корысти и властолюбия читался в глазах Иоганна Георга Леопольда! Присмотревшись к отцу — падре Мартини постарался облегчить жизнь сына. Бесконечными фугами терзал не слишком, строгими правилами контрапункта обременял не всегда, старался увести от них в сторону ежедневными беседами на темы музыкально-исторические.
Однако юный Моцарт, как та разгоряченная лошадь, останавливаться не желал. В глазах Амадеуса тоже пылала жажда. Правда, не жажда корысти и властвования — жажда создания чего-то такого, что было бы сравнимо с созданиями Божьими! Это опять-таки была гордыня, и поддерживать ее францисканскому монаху не подобало. Но такую гордыню Джованни Баттиста Мартини прощал. Он привык считать: способность к музыке есть дар Создателя. Ну а если дар от Бога, то и развитие дара — даже несоразмерное, даже сверхъестественное — от него же!
И все же дар Амадеуса по временам старого францисканца пугал едва не до смерти. Чуялись ему многие беды, с этим даром связанные, чуялись непоправимые события, могущие произойти и в земном, и в посмертном существовании ученика!
Впрочем, проучился юный музыкант в Болонье недолго. Моцарт-старший не желал обронить ни крохи из отпущенного его сыну ломтя славы. Очертя голову летел он вперед, увлекая Амадеуса то ли в небеса, то ли в бездну!
После отъезда Амадеуса и хитромудрого отца его падре стал присматриваться к недаровитым. Верней, к ученикам полускрытого, негромкого дара. В них и только в них стал он ощущать соразмерность человеческой жизни и гармоничность соотношений частиц земного бытия. Бытия, навсегда очерченного в пределах своих и возможностях Господом Богом.
Однако утро, которое должно было начаться занятиями с новым учеником, пропадало зря! Пройдя во внутренние покои монастыря и все еще поеживаясь от холода, падре побрел к себе.
Ценя всеевропейскую известность доброго пастыря, приор монастыря передал ему во владение целых четыре комнаты. Случай небывалый, случай единственный!
Как раз об этих комнатах и о вещах, их наполняющих, один из молодых, обитавших в Сан-Франческо монахов — и падре Мартини это ясно слышал — сегодня утром сообщал, попискивая, другому монаху, постарше:
— …а собрание книг? Оно неисчислимо! Числом до семнадцати тысяч томов, говорят, доходит! Ну а если мы глянем на эти неисчислимые ряды с иного боку: что они такое? Да всего лишь ряд инкунабул в телячьей коже! А ведь в коже телячьей должны пребывать телята. Так велит Господь. А после снятия кожи — она должна идти на башмаки! Телят же, брат Анджело, мы с тобой обязаны побыстрей употребить в пищу. Это Господь определил ясно. Ух, как славно мы могли бы с тобой те тысячи употребить! Жаль, не за один присест.
Тучный Анджело, узкоглазый как китаец, рыжебородый как перс, поглаживая живот и умильно вспоминая трапезу с маринованными оливками, а также, невзирая на пост, вмиг съеденными жареными болонскими колбасками, круговым движеньем руки энергично протер лысину. Обширная его лысина делала невозможной изящную, геометрически правильную тонзуру. Это брата Анджело чуть печалило. Но сейчас было не до печалей. Надо было учить уму-разуму молоденького Пьетро:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу