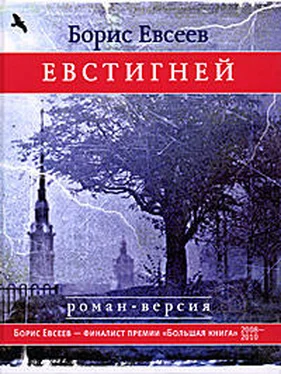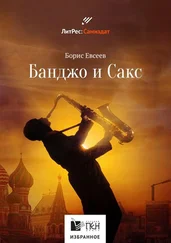Вот, к примеру. Не стоило соглашаться быть наставником мало смыслящих в музыке, но зато много смыслящих в искусстве ухищрений учениц! Теперь — драма, теперь не расхлебаешься. Но уж если честно сказать, одна из учениц нынешнего года — Лизок — с другими схожа не была: ни голосом, ни статью. Если кого и напоминала — так это Алымушку.
Алымушка...
Двадцать с лишним годков схлынуло! Вроде и вспоминать стыдно. А как закроешь глаза — все одно вспоминаешь.
Одна, только она одна! Воспитанница и полюбовница Ивана Ивановича Бецкого, стояла она в отдалении, чуть себя колыша: словно вышла из зеленых, пахнущих торфом, а не солеными морскими водорослями невских вод. Одна Алымушка!
Евстигней Ипатыч съежился.
Вслед за воспоминанием об Алымушке, о Смольном институте, о богатом дормезе, его недавно едва не сбившем, о долетевшем из того дормеза Алымушкином смехе — явились мысли о все еще здравствующем сластолюбце Бецком.
«Говорили ведь: Бецкой — отец госудырыни Екатерины! Отсюда повадка и властность, отсюда желание всем володеть: будь то алмазы, будь то полотна голландские, будь то смолянки в коричных платьицах...»
Раньше в августейшее отцовство Евстигней по-настоящему не верил. А тут — сопоставив лица — вдруг поколебался.
«И у сего сластолюбца хотел ты отбить полюбовницу, отнять Алымушку? А может (совместно с Бецким ею владея), тайно возмечтал смешать свою кровь с кровью царской?»
Ракоход мыслей стал рвать жилы: сперва на куски крупные, затем и на мелкие. Грудь стеснилась: будто отравы выпил.
«Кровь, кровинушка! Куда из меня по капле точишься? Алая солдатская — куда вытекаешь? Черная хрестьянская — куда бежишь? Надо либо передать тебя по родству, либо выхлестать, как вино из бочонка, всю до капли! Или уж если не человеческому роду передать, то стать родоначальником… Кого, чего? — испугался он. — Русской профессорской музыки?»
Такие мысли пугали, уводили в места потаенные, а потому опасные.
От тех мыслей едва отбившись, Евстигней Ипатыч обнаружил: бродит он недоуменно по Петербургу. То приближается к Академии, где профессорствует, то от нее удаляется. А в Академии... Там ведь не только музыкальная муштра: скрыпичные ключи, экзерсисы, этюды... Там — девица Лизок: пятнадцати лет от роду, русоволосая, в меру высокая, ротиком полуоткрытым властно к себе притягивающая...
Только сил на нее, а главное духу — уже не хватает!
Сказавшись больным, Фомин Академию скоренько покинул, повернул домой. Какие там ученицы. Какие мысли о крови и ее приумножении. Музыка! Только она. Бесплотная, но духом ощутимая! Лишь бы на ее сочинение сил достало...
От приватного и тайно-запретного прямого перехода к делам империи не было. Однако ж вопреки отсутствию ощутимой связи, такой переход в воображении его случался нередко. Может, оттого, что дела империи зачастую также бывали таинственными? И еще чаще — запретными?
Вот государь император Павел Петрович (как иногда в лихорадке мыслей представлялось — скрыто к нему благоволивший). Стал его величество чудить сильнее прежнего. И от этого нажил себе множество врагов. Да и как не нажить, ежели враги норовили сделать из императора огородное пугало, или — как изволила выразиться покойная матушка Екатерина — «карикатуру».
Государя императора Евстигнею было до сжатия в висках жаль. Хотелось чем-то величественным (но отнюдь не барабанным) государя утешить. Так не вернуться ли снова к комической опере? Потешной, солдатской, свистульной? А после утешения императора и самому в ответ на неурядицы сего, 1798-го года, утешиться да и расхохотаться!
История отечества, ныне олицетворяемая государем Павлом Петровичем, в виде утешения припоминаться и стала. А еще — как сопоставление с оперой матушки Екатерины «Первоначальное управление Олега».
Здесь матушка мыслила довести свое искусство до степеней высоких. Кое-что в «Первоначальном управлении» и впрямь удалось. А не всё. Хороша была греческая трагедия на греческом же языке, читаемая в конце оперы. Однако напыщенность и помпезность все сгубили. Семьсот пар ног на сцене — все задумки начисто они затоптали!
Однако ж нет матушки. И противовес ее операм не нужен. Свое надобно сочинять!
Потихоньку затрепыхались (оставляемые быстрой ходьбой чуть сзади, за плечами) стародавние голоса. Заныли расширяющиеся книзу рога, затараторили скоморошьи гудки, взревели богатыри Киевской Руси!
Стала напитываться звуками не матушкина трагедия! Трагедия Озерова «Ярополк и Олег».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу