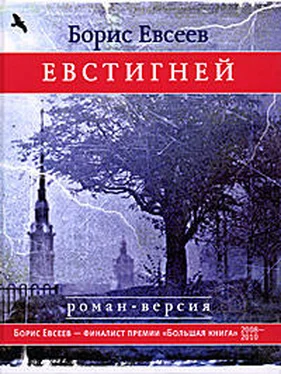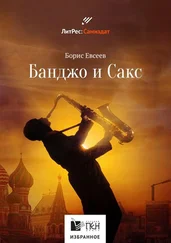— И тебя ждет то же: проломишься под пол! А там... Там ад! — послышался откуда-то крик валашки. — И тебя-я-а ждет...
Тут, думая сообщиться с одной лишь тамбовской знакомкой (а вышло — на весь домашний театр), Евстигней крикнул:
— Будущего ни свого, ни чужого — знать не желаю! Знает его один Бог! Что кому на роду написано — тому только и быть! Ада же никакого под полом нет!
Слушать его, однако, было некому. Все — и валашка тоже — убегли.
Тут, влекомый угрюмым любопытством, повернул Евстигней вдруг назад, к сцене, к зияющей и по краям сильно обгорелой дыре в ней! Все, что ранее пели и вытворяли на сцене актеры, было воспринято им столь живо, что и дыра теперь не пугала.
Подкравшись, заглянул в дыру. Голова — закружилась.
Там, в дыре, ходили зубчатые механизмы, постукивали цепи, вращались шестерни, дотлевали веревки, канаты. «Одни механизмы. Соврала про ад валашка!»
Однако стоило ему перевести взгляд от механизмов чуть левей — увиделось иное!
За шестернями, за механизмами — копошилась некое телесно-костяное вещество. Железные рты и брызжущие кровью пясти, едва воздымающие руки каменные и чугунные истуканы, тени в долгих плащах и выщербленные ветром черепа. Качающиеся на тонких стеблях, подобно кувшинкам, готовые вспорхнуть и улететь прозрачные дамы, огромные, лениво извивающиеся морские черви со свиными головами — все это чавкало, жрало, насыщалось... Только вот чем, чем? Не железом ведь, не зубцами!
Евстигней сплющил веки. Тут же почудилось: стеклянная крыша треснула, проломилась. Луна, кувырнувшись разбитой, в кровоподтеках мордой, грянулась вниз, проскользнула в адскую дыру и, осветив все вокруг неверным светом, — в сутенках подземных пропала...
Пошатываясь, покинул Евстигней дворец с механизмами. Вслед ему кланялись глумливые лакеи: свежеобритые, в светлых плащах, в перчаточках мягких. В голове звучали то «Дон Джиованни», то собственный «Орфей»…
Пир истуканов кончился. Где-то в заливах тихо лопнула ночь, зашумело утро. Выпавшим за ночь востреньким драгоценным снежком взблескивали ходовые настилы, обочины. Позванивал льдинками морской железистый ветер.
Отзвучавшему «Гуану» вослед — думалось всякое, думалось разное. Ясно было одно: музыка Мозартова — не для земной (европейской ли, российской ли) жизни. Может, для небесной, а может — и для подземной. Вот потому-то сию музыку к исполнению и не дозволили. Вот она в горелой дыре и пропала. А глубже дыры и подполья — что? Может — свет, может — отдохновение, может — нет рабства... А лакейством гадким так даже не пахнет... Вдруг и там царство? Сияющее темным огнем, но справедливо устроенное. Или... Все та ж пустота?
Бр-р... Домой! В бедность и забвение! Всунуться в разношенные сапоги, запахнуться в халат, влезть в оболочку своей собственной — только Орфеевой арфы и ждущей — судьбины.
Того ж дня стал Евстигней Ипатыч ладить свои дела по-новому.
Правда, сильно на него налегали: с одного боку складываемый в голове по кусочкам «Орфей». С другой — «Дон Джиованни».
Как совместить вновь услышанное и давно задуманное? Сие требовало осмысления и неустанной душевной работы. А какая работа, когда — ни денег, ни службы? И жар любовный по искорке угасает, а дружеский пыл, тот едва тлеет...
С чего начать? Продолжить сочинение оперы, искать службу?
Денежные обстоятельства были из рук вон плохи: за квартеру полгода не плачено, долгов по трактирам — несчитано, заказов стоящих нет как нет!
О том ли мечталось в Италии? Такого ли обращенья заслуживал выученик двух Академий?
Ум Фомина блуждал. Сердце надрывалось.
То он видел спасение в ком-то из вельмож, кто бы взял под крыло, накормил, приодел, жену с детками завести позволил (а там, глядишь, и прислугу с выездом).
То спасение виделось в вольности: морскою грозой, смерчем откуда-то с Балтики доносило урывки неслыханных французских дел. Смысл тех вольностей был таков: разрушить навеки данное, расколоть в щепу старинные правила, разорвать неукоснительную подчиненность!
Слухи о вольностях доплывали до Петербурга тайно, скупо. Однако ж совсем их развеществить держатели российской жизни не умели. Чернь, бунтовавшая в Париже, неистовой своей жестокостью Фомина отталкивала. Он приглядывался к окрестным мужикам, возившим пеньку и кожу, к архангельским рыбакам, бывавшим в Питере, к чухонским поселянам... Симпатии они вызывали мало. Были не тонки, к прекрасному не годны, да о том «прекрасном» и слыхом не слыхали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу