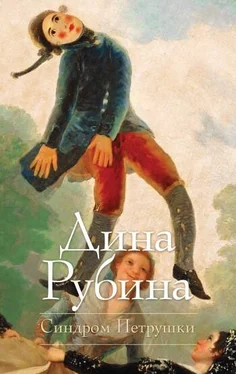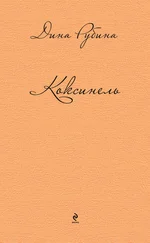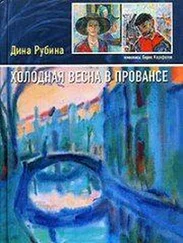Как выяснилось, зря.
Кстати, было еще мною сделано некоторое открытие. Загадочное.
В первый же вечер, извлекая что-то из необъятного беспризорного шкафа, доставшегося им по наследству от, как говорил Петька, лошадей, он приоткрыл дверцу, и на верхней полке – куда не положено было заглядывать посторонним, ну а мне-то, с моим ростом, видно было все как на ладони – я в полутьме заметил чем-то знакомую куклу, но не Петькину, а чужую.
– Постой… – вымолвил я, обернувшись в сторону холодильника, где на старой, прижатой магнитиком фотографии рядом с маленькой Лизой как раз и сидит… Да не об этой ли «родильной кукле» семейства Вильковских рассказывал мне доктор Зив? Драматический приз, проигранный в карты, вновь возвращенный в семью и опять пропавший? А ведь, похоже, то был он – старый еврей в жилетке, с пейсами, с трубкой в руке, мягко поблескивающей медным мундштуком в полумраке шкафа… Где же он хранился до сих пор? И откуда выплыл?
– Постой, ведь это?..
Петька приложил палец к губам, мягко отвел мою руку от дверцы шкафа и притворил ее, буркнув:
– Потом… когда-нибудь.
С моим приездом, как обычно, из дворового сарая был извлечен «докторский тюфяк» – попросту матрас на деревянной раме, сбитой Петькой еще в мой первый приезд. Он замерз и задубел, мы внесли его в дом и стоймя прислонили к стене в мастерской, чтоб к ночи разомлел и оттаял.
Когда я вышел из душа, с алчностью обоняя запах жареного лучка в именном блюде «Восемь яиц доктора Горелика», матрас уже оседлали двое – лукавец Фаюмочка и эстрадная дива Анжела Табачник. Эти всегда работали дуэтом, выдавая потешные диалоги. Сейчас они пребывали в ссоре: сидели на приличном расстоянии друг от друга, свесив ножки и остервенело бранясь.
«Ты, тол-сто-жо-о-пая… – тянул Фаюмочка бархатным своим голоском. – Думаешь согреть доктору матра-ас? Хочешь ночкой подвалить к доктору, а-а?..»
Та визгливо обзывала его наглецом, убогим клистиром, тупицей, одновременно умудряясь хвастать обновками. «Ах, какой я купила чудный лифчик, – говорила она, меняя хамский тон на чистую поэзию, – бежевый, кружевной, с красными розочками…»
Мой друг в это время сидел за столом, с двумя карандашами, заложенными за оба уха, и, сосредоточенно хмурясь, вынимая то один, то другой, почесывал им в волосах – делал вид, что работает.
«У тебя сколько мужей было, а? – не унимался Фаю мочка. – Теперь доктора захотелось, бесстыдница!»
А та отбрехивалась и все хвастала – видимо, с дальним прицелом «на доктора» – соблазнительными красотами нового бельишка: кружавчики, застежечки, красные розочки… миллион, миллион алых роз… «Вот попаду под машину, – мечтательным голосом говорила она, – и медсестры в приемном покое станут меня раздева-ать и от зависти языками цо-о-о-кать…»
– Может, хватит? – наконец заметила Лиза, переворачивая на сковороде яичницу. Петька поднял голову от работы, уставился на кукол, как бы удивляясь – а эти что тут делают? – и гаркнул:
– Эй, ребята, а ну, заткнитесь!
Поднялся и развел скандалистов по разным стенкам.
– Боря, – сказала Лиза, ставя передо мной тарелку на стол. – Ты не находишь сходства между нашей обстановкой и твоей клиникой?
К ночи тюфяк возлег, где обычно: вдоль окна-двери, так что, лежа, я видел в просвете между занавесями спутанные жилы плюща на монастырской стене, жестяной дворовый фонарь на столбе, кособокую дверь сарая и ледяные горбы, сквозь которые в круговерти задумчивого снега парил призрачный Петька за призрачным столом…
Ко мне прибежал расседланный к ночи трехногий Карагёз, вскочил на тюфяк, свернулся, пригрелся на моей мохнатой груди, и в какой-то момент я заснул, и проснулся, и опять заснул… И снова проснулся, когда в половине четвертого пропела свою надтреснутую песенку пастушка из ходиков, к которым я никогда не мог привыкнуть. А Петька все сидел, сосредоточенно чиркая что-то в своих бумагах и тихо шурша.
Две лампы-прищепки, прикусив край стола, причудливо освещали снизу его лицо желтоватым светом. И таинственный этот свет, и пугливые огромные тени, скользящие по стенам от малейшего взмаха его руки, и куклы, терпеливо ожидающие во тьме знака к началу какого-то действа, но главное, его непривычно подсвеченное средневековое лицо: скульптурный подбородок, орлиный нос, высокие надбровные дуги – все это создавало картину нереальную, сновиденную, даже пугающую… Может, именно так, в глубоком подвале одного из домов пражского гетто, сидел когда-то над свечами великий и властный, ученейший рабби Йегуда Лёв бен Бецалель, размышляя о способах оживления своей огромной куклы?..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу