Они неуверенно переглянулись, один осторожно, точно на пробу, улыбнулся. Потом они снова сделались хмурыми и грубыми: похоже, им стало стыдно, что они позабыли, зачем они здесь.
— Ты сильный человек, — сказали они. — Ты смог совратить девчонку, чтобы она легла под тебя, а потом избил до полусмерти ее брата. Ты считаешь себя сильным, но твоей силы не хватит, чтобы спастись.
Они надеялись, что он станет им возражать, но нет.
Они кормят его и расспрашивают. Но когда он жует и молчит, они и сами замолкают, и все замыкается.
Огонь догорает. Подкрадывается темнота, и поскольку ему так и не пришлось умыться, его косые выступающие скулы блестят, как два темных птичьих крыла.
— А это была правда насчет дождя? — вдруг тихо спрашивает один из них.
И тут Мейснер понимает, что выживет. Пока это знает только он один — другие знают, что он умрет.
Одно знание противостоит другому, и все уходят спать.
Сторожить остается тот, кто задал вопрос.
В деревне, где родился караульщик, его, называли Шляффе; он был маленький, сухонький, и на лице у него всегда было такое выражение, будто он по ошибке кого-то убил и теперь сокрушается об этом, надеясь в глубине души, что труп никто не обнаружит и ему ничего не сделают; имя Шляффе звучало как хрюканье, может, потому его так и назвали. Но в таком случае то был совершенно беспомощный и безобидный поросенок, который и младенца за ногу не хватит.
В году от Рождества Христова 1782-м он перебрался в ближайший город и там женился. Детей у него, однако, не было. Соседи считали, что его детородный орган слишком мал в сравнении с телом. «С полмизинца детей не сделаешь», — говорили они, дружелюбно посмеиваясь.
Жена его тоже была не из тех, кто может превратить худого, улыбающегося кривой улыбкой, неуверенного в себе мужичка в радостно смеющегося толстяка. Она пристроила его на работу ткачом и на другой же день начала звать его Ткач; наверно, чтобы ему не дали какого-нибудь другого прозвища и чтобы не подпускать его к себе слишком близко.
Горожане подчинились ее решению. Его стали звать Ткачом, а когда началась охота на Мейснера, его вскоре позвали, чтобы он привозил загонщикам еду.
И вот тут-то, в промежутке между тем, как привезти еду и возвратиться домой, он и попался в лапы истории. Его назначили караульщиком, решив, что при малейшей попытке пленника сбежать Ткач из одного страха сразу поднимет громкий шум.
Ему выпало караулить первому. Смена длилась пять часов — с одиннадцати до четырех утра.
* * *
Разговор продолжался, вероятно, несколько часов. Теперь мы можем реконструировать его только в общих чертах: слабость стражника, сила связанного пленника, любопытство стражника, недовольство женой и жизнью, которую, на его взгляд, он влачил слишком долго. Мы можем представить, как в словах связанного Мейснера для Ткача вдруг забрезжил луч надежды, как тот все решительней стал уверять, что поможет и поддержит: роли переменились. Теперь говорил Мейснер, спокойно, убедительно, а стражник молчал и слушал. Мы можем только догадываться, что мерцало в его подсознании: мгновенный и страшный образ человека, падающего с крутизны, чувство облегчения, которое он испытал, когда понял, что это не он сам лежит мертвый в ущелье, разговор у костра.
Реальным, осязаемым доказательством были веревки, разрезанные и аккуратно сложенные кучкой под деревом, где лежал пленник; исчезновение кое-каких предметов первой необходимости, исчезновение стражника, исчезновение пленника.
Никто не разбудил того, кому предстояло вступить на очередную вахту у костра. Розовое в утренней дымке солнце выкатилось из-за горизонта, костер догорел, кому-то стало зябко. Дрожащие, расстроенные, сгрудились они вокруг опустелого места, где недавно держали пленника. Кто-то стал яростно звать Ткача, предателя, но криком его было не вернуть.
Они бежали.
Теперь их было двое, и съестные припасы быстро исчезали. У спящих они смогли украсть лишь немного хлеба, и только — разве что счесть краденым нож Ткача. Уже третий день шли они, изголодавшиеся, смертельно усталые, на северо-запад. Мейснер давно распростился с надеждой добраться до какого-то определенного места — с него хватало того, что пришлось бежать от определенного места.
За ним шел Ткач, согбенный больше, чем всегда, да вдобавок теперь голодный и усталый, и еще с добавочной ношей — начинающимся сомнением, которое нельзя было сбросить с плеч на привалах.
Читать дальше

![Юрий Москаленко - Император по Случаю. Книга пятая.Часть первая [СИ]](/books/26646/yurij-moskalenko-imperator-po-sluchayu-kniga-pyataya-ch-thumb.webp)

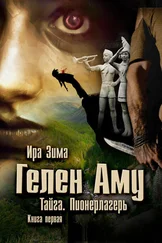




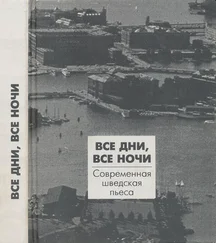
![Пер Энквист - Библиотека капитана Немо [Роман]](/books/396658/per-enkvist-biblioteka-kapitana-nemo-roman-thumb.webp)
![Галина Гончарова - Красная зима [? Зима гнева] [litres]](/books/433155/galina-goncharova-krasnaya-zima-zima-gneva-litr-thumb.webp)

