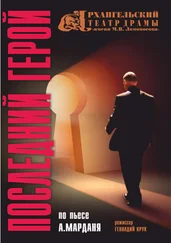У меня заходилось сердце.
Ее странное двуполое имя мне снилось само по себе. Я не знал раньше, что слово, звук может сниться — отдельно, никакой картинки, только яркий свет и это имя — Саша…
Вторая возможность позвонить представлялась, когда она забегала к этой самой подруге-партнерше. Учились вместе еще в школе, конфиденциальность была гарантирована. Подруга шла на кухню, варила кофе, открывала прихваченную по дороге бутылку beefeater'a, банку тоника — обе это дело очень и очень любили, а она набирала номер, и мы соединялись на полчаса, на сорок минут, я люблю тебя, и я тебя люблю, а подруга заглядывала в комнату и крутила пальцем у виска.
Раз а пару недель муж улетал в Цюрих, в Лондон, в Кельн, черт его знает, куда, но это мало что изменяло, огромное семейство держало ее цепко, при непредставимых их деньгах у них не было постоянной прислуги, только убирать приходила какая-то бестолковая тетка, бывшая министерская служащая, а она сама ездила по магазинам, вдвоем с матерью готовили на всю ораву. Но, все-таки, когда муж был в отъезде, становилось немного свободнее. Охранника, стокилограммового блондина с мягким лицом русской девицы, посылали на джипе за дочерью в школу, оттуда он вез девочку в бассейн, на теннис, на дополнительный английский, ждал у дверей, вытирал мокрые волосики своим полотенцем с надписью «Сборная СССР», тащил, вспотевшую, под полой своей куртки, стараясь не прижать больно к кобуре, в ответ получал полное обожание десятилетней красавицы. Тем временем у меня раздавался звонок, я еду на Черемушкинский… будь на углу… минут сорок выкроим, да?..
Я в панике, боясь опоздать, потерять лишнюю минуту, брился, суетился под душем, одевался тщательно — вообще-то в последнее время сильно опустился, ходил постоянно в как бы модной щетине, в джинсах, в некогда сверхмодном, но уже довольно драном длинном плаще, иногда прямо в нем, вернувшись в беспамятстве домой, заваливался на диван, включал телевизор и тут же засыпал под какие-нибудь известия, под нескончаемые танки… Лихорадочные мои старания давали результат незначительный, на угол вылетал сильно поношенный джентльмен, в стареньком твиде, в порядочно засаленном на узле галстуке, в давно пожелтевшей от стирок рубашке — впрочем, другим, с иголочки, меня уже трудно было представить.
И вот рядом останавливался серебристо-белый, текуче-округлый, словно облизанный брикетик мороженого, небольшой ее «мерседес», она, пристегнутая, перегибалась, тянулась через сиденье, распахивала дверцу, и я плюхался рядом с молодой женщиной, сверкающей солнечными волосами, янтарными глазами, абрикосовой от кварцевого загара кожей и всею прочей юной пошлостью… На ней могла быть майка с матерной английской надписью, или французская морская шинель, джинсы или юбка до земли, на всех пальцах серебряные кольца, в левом ухе две серьги, и вместе все это выглядело воскресным посещением дочери с целью проветривания нафталинного, быстро дичающего папаши.
Машина летела по Тверской, застревала в пробках, петляла по переулкам, наконец мы, всегда с оглядкой, останавливались метров за пятьдесят от ее галереи или за квартал от дома подруги, пропадавшей с утра до ночи по тусовкам, я вылезал, закуривал, шел медленно — случайный гость… Когда я входил, она уже была со стаканом джина в руке и в одной майке почти до колен.
На верстаке, идеально подходящем под мой рост, на заменяющем стол верстаке, в маленькой комнате за галереей, на большом махровом полотенце, извлеченном из набитого пустыми бутылками шкафа.
Она стонала, выла, плакала, я зажимал ее рот губами, она выворачивалась, маленькие ее пятки мелькали у моего лица, судорожно сведенные пальцы тянулись к моей груди, вцеплялись в волосы, отыскивали соски, и через две минуты она обессиливала, закидывала голову, закрывала глаза, счастливая и безумная улыбка совершенно меняла ее, а я продолжал вбиваться, внедряться, отталкивая и снова притягивая ее к краю дощатого ложа, и все возобновлялось, и снова кончалось, снова, снова, и, наконец, я нависал над нею низко, опершись одной рукой, другую уже было не остановить, а она ждала, смотрела мне в глаза, и радостно выгибалась навстречу, и принимала всею кожей, и каждым волоском, и впитывала, вбирала, и животная жадность была в ее движениях, и в лице, обычно имевшем мило доброжелательное, чуть кокетливое, но не более, выражение.
На диване, раздвигающемся не слишком широко, на разъезжающемся, с ненадежным краем диване в подружкиной однокомнатной, на собственной простыне и наволочках, специально купленных и хранящихся в том же диване, в пластиковом мешке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
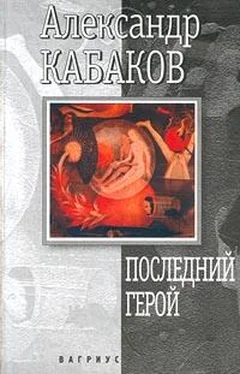

![Александр Кабаков - Группа крови [повесть, рассказы и заметки]](/books/25412/aleksandr-kabakov-gruppa-krovi-povest-rasskazy-thumb.webp)