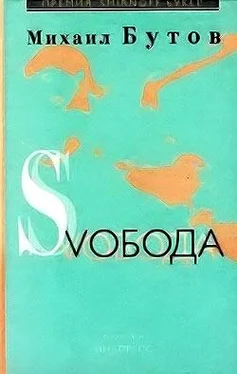— Тебе известно, сколько просуществовали австралопитеки? Три миллиона лет. И что мы имеем? Костей наперечет и никакого следа в дальнейшей эволюции — тупиковая ветвь. Три миллиона! Это в шестьсот крат больше, чем вся писаная история человечества. И в двадцать — чем вообще существует хомо сапиенс. Если выложить голова к хвосту три миллиона кузнечиков, получится шестьдесят километров. А по часам Земли — минута, неполная минута. Старик, экологический пыл благороден, но слишком антропоцентричен. Люди мнят, что они в силах нанести природе непоправимый ущерб, — хотя все еще не нашли, как вытравить клопов из дивана и вывести сорняки с огорода. Напортить непоправимо человек способен только себе самому. Он перепилит сук, на котором сидит, и сковырнется.
С точки зрения геологической истории — не такое уж важное событие. Гея обойдется и без нас. Кардинально ничего не изменится. Созданные нами источники радиации станут новыми мутагенными факторами. Появятся новые микроорганизмы, которые сожрут наши пластики и резины; металлы окислятся и распадутся, стекло уйдет под почву, бетон пробьет трава, искрошит его… На все про все, до зеленой лужайки, — тех же трех миллионов лет хватит с избытком. При том, что основные процессы как текли, так и будут течь своим чередом: континенты подвинутся, куда им и положено, в свой срок сотрутся горы и в свой срок поднимутся другие; океан где-то отступит, но где-то и отвоюет у суши… А жизнь — это тип пространства, ее в принципе невозможно искоренить. Трудно представить, какую нужно учинить катастрофу, чтобы в ней погибли целые классы живого… Под удар попадают виды — конкретное разнообразие, но не его матрица. В цепи поколений разнообразие воссоздаст себя почти независимо от того, какая его часть станет основой для размножения. Я не говорю, разумеется, что мы вправе безоглядно уничтожать окружающее ради своих сиюминутных потребностей — так мы просто быстрее задохнемся. Но эволюция не закончилась. Значит, отдельные виды просто обязаны исчезать — освобождать территорию следующим.
Допустим даже, что есть, в той или иной форме, некая планетарная программа развития. Допустим, когда-нибудь ее удастся прочитать, выделив, скажем, из информации, закодированной в генах наряду с программами индивидуальной, видовой — и далее по восходящей. Но пока этого не произошло, у нас нет ни малейших оснований, чтобы судить, насколько наша деятельность — и разрушительная, и самоубийственная в том числе — соответствует или противоречит такому плану. Почему мы заранее уверены, что окажемся венцом природы и чаянием Земли? Вдруг именно самоубийственная и соответствует? Вдруг мы не цель, а инструмент, который уже отработал. Или, наоборот, не сработал, не совершил чего-то, к чему был предназначен. Человечек тянет одеяло на себя и желает думать, что если уж ему суждено прекратиться — значит, и всему прочему заодно. Да черта лысого! Структуры сперва упростятся, но обязательно вернутся к полноте — пускай уже другой, но не меньшей. И особое место, которое мы занимаем в них благодаря до сих пор достававшейся нам, случайно или закономерно, монополии на сознание, — оно тоже не останется пусто. Придут на него, предположим, пчелы и муравьи — коллективный разум; сейчас они в резерве. Конечно, на мышление в нашем понимании это будет совсем не похоже. И они могут вовсе не открыть, что некогда такие, как мы, здесь верховодили…
— Ну да, — сомневался я, — пчелы… А личность? Теперь и физики считают, что она необходима в мироздании.
— А прежде нас, прежде какого-нибудь хомо эректуса, — она где была? И кем, кстати, установлено, что личность непременно должна совпадать с биологическим неделимым? А всякие соборные и народные души, о чем в последнее время столько трындят, — с ними тогда как? Может быть, стоит как раз задуматься: вдруг личность и особь — не всегда синонимы?
Вообще-то я много узнавал из разговоров с ним. Но вот эти его идеи не стал бы подписывать как символ веры. Ум у меня устроен иначе. Картина мира, откуда исключен наблюдающий мир человек, от меня ускользает, и я не в состоянии ее удерживать. А если требуется помыслить слона, я сначала воображаю живого слона Бумбо в цирке или саванне — и только потом рассматриваю его как представителя семейства или вида. К тому же, как ни крути, в природе разлита безмятежная смерть. А мне и один человек, и народы, и человечество интересны главным образом в меру своего стремления из-под смерти выйти; более того — вывести за собой материю. Я ездил, любовался, старался проникнуть, созерцал и фотографировал… Ничего, признаюсь, так и не понял.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу