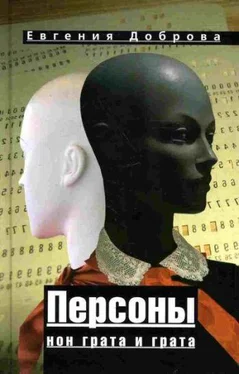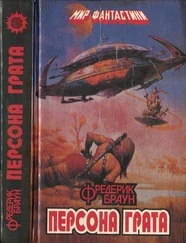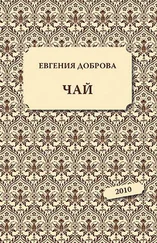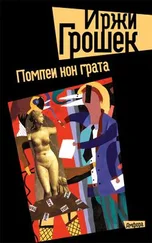Цепочка от Чебурашки к Алесу лежала через Майка. Майк был одним из многочисленных ее гостей. Аутсайдер и рок-н-ролльщик, он пленил меня, видимо, лаковым блеском черного грифа «кремоны» и строгим военным покроем английского френча, глухой ворот которого так немыслимо шел к его странной, болезненной бледности и отчаянным темным глазам.
В это время веселая жизнь переехала на Бережковку, в экс-безвестный ДК, переделанный в клуб. Меня привел туда именно Майк, и сердце мое падало и падало в бездну, когда мы шли мимо той лавочки, где я сидела с Алисой, или когда, в ясный вечер, я могла различить, как за рекой, ровно напротив, в переливах мерцающих пятен алеет призывно окошко Олиной комнаты.
Иногда Майк там сам сэйшенил; играл он неплохо, но как-то бессильно, в этом было свое обаяние, обаяние Маленького Принца, с ним и я становилась безжизненной, слабой инфантой, — обессилевшей после разлуки с Алисой…
Собственно, и случилось-то это почти у меня на глазах. За месяц до этого , обессиленная и заплаканная, я кричала на Майковой кухне: «Он любит меня!!» — (любил меня Алес) — и пыталась схватить за рукав резко уворачивающегося от меня Майка — и глянуть ему в глаза, но Майк — крутанулся и вырвался, — а у меня сдали нервы, и я запустила в него своим мокрым ботинком, сушившимся на батарее — грубым тяжелым «вибрамом» с высокой шнуровкой и двумя железными пряжками…
В глаза я ему смогла заглянуть через месяц…
Парки при старых московских больницах, душные пыльные клумбы… В глубину расходятся тропки, затененные кронами сосен. Ближе к главному корпусу нагреваются солнцем беседки, газоны, скамейки с изящными спинками, закрученными, как завиток на грифе виолончели…
Майк умер во сне — и я никак не могла забыть потом те больничные парки и беленые вазы с настурциями… Остался еще бергамотовый запах: по утрам мы — я и Алес — привозили горячий, казалось, стоградусный, крепкий до черного чай — большую бутылку, толсто укутанную слоем газет и цветастым павлово-посадским платком, — расхотев жить, это было единственное, о чем он просил.
Майка не уберегла — впрочем, и он не смог уберечь меня. Майк доверял только Алесу — Алес украл у него самое главное… Из Москвы, от беды, от цепких кошмаров мы сразу сбежали: я укралась Алесом в Питере. И — оттяжный Санкт-Петербург… «Жизель» в Мариинском, Устинова поет в Оперетте… Низкое ультрасинее небо. Люди, загорающие на крыше Петропавловки, и ленивый шелест Невы.
Ночь на Адмиралтейской… Ночь, за которую, прямо у нас на глазах, успели бы распуститься все листья, — бесконечная, длинная ночь… Рядом, на Дворцовой площади, играл до утра одинокий саксофонист, он и теперь, говорят, приходит туда поиграть из-за хорошей акустики полукруглого каменного пространства.
Две породистые собаки сидели на выгнутом козырьке подъезда такого же породистого дома. Не боясь высоты, собаки поглядывали вниз и виляли хвостами — им было тогда интересно, как разводят мосты.
От Генштаба мы свернули на Невский и дошли до сквера перед Александринским театром… Огромное, алое солнце взошло в шесть утра над Петербургом. Оно ослепило нас, и кровь загустела в желе. И тогда мы вернулись в Москву.
А после Питера Алес снова вернул меня в клетку, невольно, даже не догадавшись об этом. Началось счастье. Опять гуляли по набережным, опять я ходила по заповедным возлюбленным улицам. И — полтора года в сумасшедшей квартире, откуда с балкона — весь город, с балкона же — виден и вход в метро, можно назначить свидание и ждать, стоя на этом балконе, — и можно курить, и нужно заниматься любовью. Балкон…
Так вот, Алес, сам того и не ведая, опять поселил меня в клетку: вышли тогда из метро:
— Алес, а где твой дом?
— А вот он.
И шли пить чайку, в арочный подъезд, лифт вез на самый-самый верх, внутри — еще арка… Поворот. Ключ. Поворот. Расставленные по годам и номерам толстые журналы на этажерке — абсолютный порядок, все ежемесячные ступеньки на корешках «Знамени» строго соблюдены, ни одного провала — первое, что бросилось в глаза. (От пола до потолка, от пола до высоченного потолка!) И рядом — дверь, вторая: черный ход, сверху — в подвал. (Там что, винтовая лестница, что ли? Вряд ли: это уж слишком; а так — тьфу, легкий мистицизм для детей…)
Легкий мистицизм сталинских домов. Пили чайку. Ночевали. Потом оказалось, что можно жить. И мы стали там жить. Вечерами Москва утопала в закатах, утрами рассветы выплевывали в мир свежесть холодных улиц. Теперь центрам принадлежал уже вовсе не день, а вечер и ночь: пешком на Арбат, на Смолу, на Калину…
Читать дальше