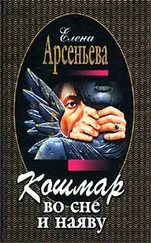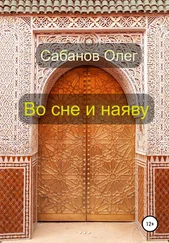Ему вспомнился сон, мертвое лицо матери, ее уходящая улыбка, ее растущий на глазах палец, которым она манила к себе, и рука Совы, схватившая мать за горло. Стало до жути тоскливо и жалко себя, и, кусая от обиды губы, Андрей заплакал. Он думал при этом, что надо пойти и броситься под поезд, пусть они все знают…
Обессиленный и заплаканный, он свалился на стружки и уснул.
МАШКУ не поймали.
Он хорошо знал эту станцию, ему не раз приходилось здесь удирать от милиции. И еще за время бродяжничества он изучил людей и давно понял, что людям наплевать на все и на всех, когда они в толпе и толпа одержима какой-то общей целью.
Матка нырнул в самую гущу толпы. Он петлял, придерживаясь, однако, нужного направления — к выходу в город. Он-то знал, куда бежит, а конвоир — нет, потому и пёр за Машкой вслепую, напролом, расталкивая людей, озлобляя их против себя, и на него, а не на Машку, сыпались проклятия и угрозы. Он был в цивильной одежде. В конце концов он и вовсе попал в людскую пробку, образовавшуюся в узкой калитке, через которую пропускали на платформу. Толпа двигалась навстречу ему, и, сколько он ни кричал, ни требовал, чтобы его пропустили, сколько ни взывал к сознательности граждан, никто не обращал на него внимания. Все рвались к поезду, на штурм. И пока конвоир выбирался из толпы — причем толпа относила его назад, — Машка буквально между ног выскользнул за калитку. Тут он заметил бабку с плетеной корзиной. Бабка тоже пыталась пробиться на платформу. Машка с разбегу боднул ее головой, бабка схватилась за живот, выпустила корзину из рук и запричитала: «Ой, люди добрые, убили меня, убили!.» А Машка подхватил корзину и нырнул в кусты, высаженные вдоль забора. Он и здесь рассчитал все точно, безошибочно: никто не погнался за ним, а причитавшую бабку просто оттерли в сторону, чтобы не путалась под ногами, не мешала людям, и хорошо еще, что не задавили.
Пригнувшись, Машка добежал до конца посадок, оглянулся, на всякий случай, хотя я не сомневался, что погони уже нет, и с независимым видом пошел к перекидному мосту через многочисленные пути. Перейдя на другую, противоположную от вокзала сторону, он почувствовал себя в относительной безопасности. Искать его будут в районе вокзала и рынка, никому не придет в голову искать в поселке. Он знал одно потаенное местечко поблизости, где обычно собирались на ночлег беспризорники и где можно было бы переждать до обеда, пока уйдет поезд, на котором увезут оставшихся ребят, но идти туда не решился, потому что это местечко могут вполне знать и местные легавые. Возьмут и устроят облаву. Тогда прощай, свобода. Да и Андрюха, подумал Машка, сидит там в сараюхе, дрожит, наверное, от страха. Впрочем, сейчас, сразу, рискованно появляться и возле сарая. Там тоже может быть засада, если Андрею удалось рвануть, но его выследили. Парень он мировой, одно слово — питерский, но «домашняк», его легавые запросто расколют, он и не заметит этого. Машка поэтому и не рванул вместе с ним, зная, что ловить будут прежде всего именно его, и таким образом отводил погоню от Андрея. А в себе-то он был уверен — не впервой водить за нос легавых.
В поселке спрятаться было, негде, здесь каждая собака друг друга знает. И Машка решил выйти к сараю кружным путем, по дороге, ведущей на заброшенный рудник. Получалось километра три, зато безопаснее и вернее. Да и спешить ему некуда. В любом случае надо выждать какое-то время, пока уляжется паника и пока не уйдет поезд. Местные легавые порыскают для виду — им-то какое дело! — и плюнут. У них своих забот хватает.
В бабкиной корзине была жратва — шаньги с картошкой и с гороховой мукой, полкаравая хлеба и порядочный шмат сала — и почти новый оренбургский платок. Нашелся там и мешочек с самосадом.
Машка плотно подзаправился, пожалев, что нет бумажки и спичек, чтобы покурить. Хлеб, сало и оставшиеся четыре шаньги он завязал в узелок (корзина была обтянута тряпкой), табак сунул в карман, а платком обмотался и сверху надел фуфайку.
К сараю он приближался с опаской: боялся все-таки засады. Прежде чем подойти, долго наблюдал, нет ли чего подозрительного. Но все было тихо, спокойно. А главное, к сараю от водокачки вели только одни следы, и Машка был уверен, что они оставлены Андреем. Значит, его не засекли, не схватили, и сюда легавые не сунулись.
Он низко пригнулся и перебежал пустое, голое пространство— метров пятьдесят, — отделявшее его от сарая. Оттянул створку и протиснулся внутрь. Тихонько свистнул, но никто не откликнулся.
Читать дальше