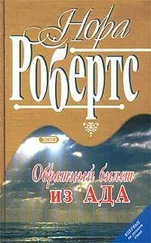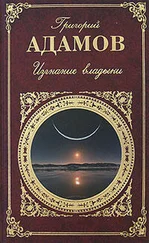У входа сидел чистильщик обуви, Ариэль Фонсека ди Маттуш, мужчина лет тридцати, столь же терпеливый, сколь и необъяснимо веселый, целый день напролет он сидел на скамеечке подле своего negozio, как он именовал деревянное сооружение с площадочкой для башмака и выдвижными ящичками и полочками для тиглей, склянок и щеток. На родине, в Португалии, он был священником, «католическим?», «конечно, католическим! Или в Португалии есть другие?», в Синтре, «где у человека перед глазами всегда исполинские стены крепости, в конце концов перестаешь понимать, защищают они или скорее живьем тебя замуровывают», рассказывал он, «но учился я и был рукоположен в монастыре Моштейру-душ-Жеронимуш, в святом Белене!» Потом вдруг «из-за неблагонадежных предков» у него возникли неприятности. Дед его в свое время крестился по принуждению и неожиданно был заподозрен в том, что передал закон Моисеев своим детям и внукам. «Они выкопали останки деда и сожгли их, — рассказывал Ариэль, — безумная комедия!»
Манассия подумал, что понял неправильно — почему комедия-то? А чистильщик обуви продолжал: когда же инквизиция взяла под стражу его отца, его мать и брата отца, он решил бежать. «Ты, конечно, спросишь, бросил ли я их в беде. Бросить кого-то в беде можно, только если имеешь и возможность не бросить, верно? А, мальчуган? Верно? У меня, однако, выбора не было, поэтому я помолился за их души и стал спасать собственную шкуру!»
Ариэль строил из себя весельчака, человека, которого бесконечно забавляет сумасбродство жизни. Снова и снова он прерывал свою повесть восклицанием «безумная комедия!» и смеялся. Ему пришлось бежать как якобы тайному иудею, в единственный достижимый город, принимавший таких, как он, — «но кому здесь, в еврейском квартале Амстердама, нужен католический священник?» Если же он покинет этот квартал, то окажется среди протестантов, воюющих с католиками! Все, что он изучал в Белене и Синтре, поощряло его стремление к свободе, но на свободе оказалось совершенно ненужным, даже нежелательным. В смехе Ариэля сквозила истеричность.
А Манассии, когда он лег вечером спать, снились кошмары.
«Безумный мир!» — твердил Ариэль. Как христианину ему полагалось омывать ноги нищим, как еврей он чистил башмаки богачам! Для ешивы он староват, для факультета слишком беден. Однако и школяры, и студенты приходили к нему, чтобы за медяк почистить башмаки и заодно подшлифовать свою латынь. Снова он смеялся подозрительно визгливо: «Я, как бы скованный обувными ремнями, рассказываю им о Золотом веке, когда оков не было».
Молодой человек поставил ногу на Ариэлево сооружение, чистильщик принялся орудовать суконкой и щетками. Потом вдруг вскинул щетку вверх и спросил:
— Hie, haec, hoc?
— Huius, huic, hunc, hanc, hoc… — запинаясь, ответил юноша, Ариэль же слушал, не глядя на него, и кивал. — Может, заодно и qui, quae, quod?..
— Забудь, — сказал Ариэль, а когда молодой человек расплатился, обернулся к Манассии: — Это был молодой Даниэль ди ла Пенья, сын торговца пряностями Иосифа ди ла Пенья. Ты когда-нибудь видел золото? Настоящее золото? Такие маленькие черные зернышки. Перец называются! Отец хочет, чтобы сын стал врачом. Если у него и с анатомией сложности, как со звательным падежом… О-о, вот их я люблю!
На улице появились те же подростки с пружинисто-шаркающей походкой и скандированием, которых Манассия видел сразу по приезде в Амстердам.
— У подростков это вроде как одержимость, — сказал Ариэль, — они ее зовут модой. Мне нравится. Поскольку не лишено остроумия. А ведь безумие можно выдержать, только если над ним смеешься. Издеваешься! Комедия!
Манассия узнал, что эта хоровая декламация пародировала угрозы Священного трибунала, а башмаки без шнурков и штаны без гашника напоминали об арестованных инквизицией: у них отбирали ремешки от обуви и от штанов, чтобы унизить, поясной ремень для верующего еврея отделяет чистую часть тела от нечистой, без оного граница нечистого оставалась как бы открытой. А шнурки отбирали затем, чтобы евреи в камере не могли использовать их как молитвенные ремешки. Инквизиторы разбирались в еврейских обрядах лучше тех, кто попадал им в лапы под видом евреев. А эти вот молодые свободные парни ходят по улицам и кричат, что им хорошо без пояса и без шнурков.
— Раввин, — сказал Ариэль, — не понимает этого. Ты еще услышишь, как он в синагоге мечет громы и молнии на этакую дерзость. А чего он хочет? Уважения к инквизиции?
Уже на третий день Манассия заметил, что в нем накапливается новый архив, с именами и датами, с жизненными историями и правилами поведения, про важных торговцев и коммерсантов, ученых и художников, неудачников и обнищавших. Он сидел на ступеньках гостиницы, под кованым пилигримом, который иной раз со скрипом раскачивался на ветру, и грудь его снова расправилась, бедра сделались шире, волосы ерошились от ветра, он был полон рассказов и объяснений Ариэля, а город, который он не обходил, упорядочивался по рубрикам, правилам и перекрестным ссылкам.
Читать дальше