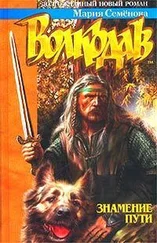Я шла домой, наступая на фиолетовые кляксы давленых ягод, рокот моторов, доносившийся издалека, казался невнятным гулом, чуть громче пчелиного или шмелиного гудения, наполнявшего собой сады. Я была беременна, мне нельзя было долго находиться на солнце. Мне нельзя было так рисковать собой и ребенком. Почему же я пошла туда? Что это вообще?.. Было неожиданно обнаружить, что меня так же просто, как и всякого другого, можно загнать в толпу и заставить кричать. Но снова и снова прокручивая в голове эту сцену, я не видела, не находила другого пути, кроме одного – ведшего прямиком под гусеницы танков. Меня тащила туда древняя, не привыкшая рассуждать упрямая сила. В ней переплелись память о деде-артиллеристе, дошедшем до Берлина, читанные-перечитанные рассказы о пионерах-героях, пускающих под откос вражеские поезда, песни, вбитые в подкорку, да что там – в продолговатый мозг – «не смеют крылья черные над родиной летать, поля ее просторные не смеет враг топтать!» Они не смели! Это был мой собственный выбор, но корни его уходили далеко за границы того, что я привыкла считать своим «я». В этот день, в этот момент я простила отца моего ребенка. Мы, кажется, еще были вольны выбирать, в каком именно потоке плыть, но были уже не вольны не быть частью потока. И мне впервые стало страшно за себя, за нас, за жизнь, прорастающую во мне из прошлого в будущее и уже заранее несущую в себе память незалеченных кровоточащих ран.
Вечером, выдавая маме таблетки, я задала вопрос – то ли ей, то ли самой себе:
– Может быть, уедем? Неспокойно у нас. У меня в Харькове друзья, в Киеве тоже кто-то был…
– Никуда я не поеду! – немедленно отозвалась она, капризно кривя лицо. – Но ты можешь ехать, куда захочешь! Я тебя не держу, имей в виду!
– Конечно.
– Ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится.
– Я просто спросила. Может быть, ты захочешь.
– Не притворяйся, пожалуйста! Никого не волнует, что я хочу!
– Выпей таблетки, пожалуйста, – повторила я, привычно уговаривая себя, что это не она, это болезнь, и стала собирать тарелки со стола.
Через сорок минут, когда препараты начали действовать, мама спросила меня обычным своим голосом, требовательным и прямым, без утомительных истерических повизгиваний:
– Завтра папина годовщина. Ты помнишь? Ты приготовила цветы? Мы поедем на кладбище?
– Мы не поедем на кладбище, – терпеливо сказала я, – там блокпост. И мины в лесу. Туда нельзя.
Мама посмотрела на меня неожиданно беспомощно, как ребенок.
– Как же так, Аля?.. – тихо сказала она. – Как же так?.. Как же я еще целый год без Санечки?..
Харьков. Май 2014
Я несла с рынка хлеб и молочку для Машки. Около подъезда судачили соседки в том самом мешковатом и растянутом, как их безразмерные летние платья и халаты, возрасте, когда женщину уже не хочется называть «девушкой», но рано называть «бабушкой». Тетки. Тетки вспоминали советскую власть, профсоюзные путевки в Болгарию на Золотые Пески, продуктовые наборы с мандаринами к Новому году и «уважение к трудовому человеку».
– Порядок был! – говорила одна.
– Не то, что сейчас! – эхом вторила другая.
– В России и то порядка больше, – подхватывала третья.
Этого я уже терпеть не собиралась. Широко улыбаясь, я пропела прямо в их оторопевшие лица:
– А ведь у нас новый закон, не слышали? О пропаганде сепаратизма. До двенадцати лет, между прочим.
Теток как ветром сдуло. А я в самом солнечном настроении пошагала дальше, вполголоса напевая мелодию, ставшую всемирно известной благодаря харьковским ультрас:
– Ла-ла-ла…
Молодцы, ребята!
Семью моего прадеда в тридцатые годы «раскулачили» на Урал, прабабка с младенцем на руках в ужасе от переселения из теплой солнечной Украины в холодную серую Россию несколько раз порывалась бежать по пути, ее всякий раз ловили и возвращали назад. Слава богу, хоть не посадили. Не стоило, ой, не стоило при мне хвалить советскую власть…
Люди забыли, но земля помнила все. Помнила, как в опустевшие дома раскулаченных и умерших от голода вселяли переселенцев из России, как в Крыму приезжие занимали дома крымских татар и радовались – вот теперь заживем! Чужаками пришли они на эту землю, чужаками и остались, не зная, не уважая ни языка ее, ни истории, ни народа.
Лекс смотрел новости по телевизору. В новостях толстые бабы в пестрых сатиновых платьях – духовные сестры клуш, прогнанных мною со двора, препирались с водителями броневика и перегораживали дорогу военной технике. Весеннее обострение, которое больные гордо именовали «Русской весной», являло себя во всей своей красе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу