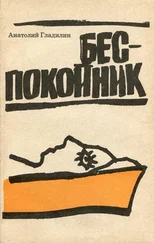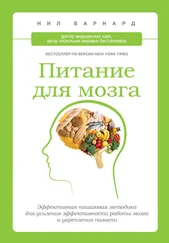— Хорошо, я покурю, только не уходи.
— У меня озноб, я замерзла, я хочу согреться, я хочу залезть в горячую ванну. Ты какой-то странный. У тебя что, неприятности какие-нибудь, а?
— Неприятности не то слово, но я держусь молодцом.
Она его искренне пожалела:
— Ничего, не тужи, дядя, ты еще молодой, у тебя все будет как надо когда-нибудь. Только без паники. Это я тебе говорю. Я знаю, что говорю. Я всегда что-нибудь скажу, а потом это так и бывает. Жизнь — такая вещь.
Он промолчал, взял ее руку и почему-то пожал. Некоторое время они сидели молча и по очереди курили папиросу «Беломорканал», набитую смесью табака, гашиша и марихуаны. Андрей Ильич смотрел в окно и терся о ее плечо щекою. Скоро он почувствовал, что на душе у него становится все светлее и сама душа становится воздушнее и легче. Андрей Ильич закрыл глаза, а когда открыл их, увидел Лизу, по пояс обернутую в большое махровое полотенце. У нее было розовое, распаренное лицо, а сам он лежал на белой твердой накрахмаленной простыне и все так же курил. Андрей Ильич внимательно рассмотрел свое тело. Это было по меньшей мере тело юного Париса, оно ему очень понравилось, оно напугало его своим изяществом. Потом он снял полотенце, в которое была обернута Лиза, завернута, словно конфета, в желтую фольгу, и полотенце с шелестом отвалилось и спланировало на пол. Он наступил на полотенце, и оно хрустнуло. Лиза смеялась, и смех ее звенел, как пристяжной колокольчик. Она что-то говорила, но смысл слов, сказанных ею, совершенно был не доступен для понимания. Он и сам что-то говорил. И сам смеялся. А иногда плакал. Исчезла разница между счастьем и несчастьем. Он забыл о своем горе, он выпускал ртом воздух и смотрел, как пузыри уходят вверх, туда, где над его головой раскачивалось жидкое серебряное зеркало. Это было странное ощущение, ранее неведомое. Нижняя часть тела как будто бы летела по воздуху, и в пуповине свистел ветер. А верхняя часть вместе с Хароном переплывала через реку. Андрей Ильич прилег сверху на Лизу и закрыл ее собою, закрыл так, чтобы не было видно. Он спрятал ее. И если бы ему сейчас показали желтое и спросили — как называется этот цвет, он бы наверняка растерялся и заплакал, как первоклассник у доски. Он все на свете и навсегда забыл. Он чувствовал блаженство. Но только интуитивно. Это была, скорее, гениальная догадка, непроверенная гипотеза. Переворачиваясь с боку на бок, Иванов произносил имя Лизы как единственное, но самое важное доказательство своей правоты. И зачем-то говорил о любви. Он ссылался на любовь, как на первоисточник, как на самый большой авторитет.
Прелюдия закончилась вполне благополучно, вот-вот должно было случиться самое главное, из двух расплавленных капель олова должна была получиться одна, но ничего такого не случилось, потому что вдруг Андрей Ильич открыл рот и заговорил:
— Я найму тебе репетитора, я закрою тебя дома и уйду. Будешь сидеть дома, и никаких тебе прогулочек. Я всегда был сторонником физического наказания. Девочек нельзя пороть, и я тебя никогда пальцем не тронул. Но я ведь могу и умею быть очень строгим... Ты уже взрослая девочка, и я не могу быть и не буду либеральным и бездеятельным наблюдателем. Я буду воспитывать тебя в очень строгих рамках. Воспитанием девочек надо заниматься очень серьезно. Иначе из них вырастают ветреницы или шлюхи. В нашей семье не принято произносить таких слов, но я говорю для того, чтобы ты знала, что такие слова есть. И, уж поверь мне, лучше слова не найдешь, не отыщешь. Именно шлюхи. А в моем представлении все это едино. Где твой дневник? Я хочу сейчас же видеть твой дневник. Держать в руках.
— Что? Что ты сказал? — оторопела Лиза, ее руки стали холодные, как лед.
— Не смей пререкаться со мной! — прогремел Андрей Ильич. — В те времена, когда я был твоим ровесником, наши родители не говорили нам таких слов, какие я тебе сейчас говорю. Это очень жестоко, и, может быть, это покажется чересчур для такой рафинированной семьи, как наша. Но, милая моя, времена настали другие. И раньше не было столько вокруг пошлости и гадости. И родители не были так обеспокоены будущим своих детей, потому что в обществе была какая-то целомудренность. Не совсем чтобы уж... очень, но какая-то целомудренность была... по крайней мере, ее видимость. А это, кстати, немаловажно. А для того чтобы иметь хорошую профессию, в наше время надо очень много и прилежно учиться. Поэтому давай сюда свой дневник. К тому же нужно быть просто хорошей девочкой.
Читать дальше