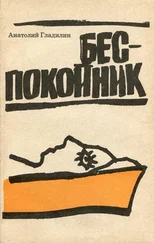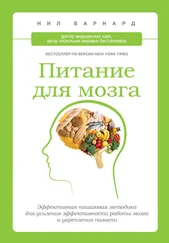Так совершенно незаметно часам к шести вечера мы вернулись в гостиницу. Саша еще была полна творческих сил, я бросил ее через бедро, сорвал с нее все паруса.
Влага зашипела под котлами, угли погасли, грешники успокоились, впервые за несколько тысячелетий боль ушла. Раскаленные орудия пыток шипели, как змеи, испуская белесый пар.
Ад тонул медленно, вода поднималась все выше и выше, заливая горящий материк возмездия. Сатана обезумел от ужаса, выбежал из парикмахерской в кальсонах (ему брили ноги), взял такси и помчался домой. Он ворвался в ад с жестяной лоханью в руках и стал лихорадочно вычерпывать воду и сливать ее через край небосвода.
Он делал это так быстро, что вода не успевала превращаться в перистые облака и падала на землю сплошной стеной. Сатана плакал, преисподняя медленно опускалась на дно Марианской бездны, грешники барахтались на поверхности, как весенние воробьи.
Дождь стучал по подоконнику, течение уносило нас в небытие. С каждой секундой все ближе и ближе.
Мы с тобой, две чудесные и диковинные птицы, сидим на вершине древа жизни, смотрим вниз на землю сквозь облака, но над нашими головами уже нет ничего. Наши крылья свисают в бездну, их слегка щекочет латынь и молитвы епископов. В крови нашей полощутся серебристые карпы, наши души светятся.
Мне трудно представить тебя, не воплощенную, не созданную, не рожденную, не представшую однажды пред моими очами.
Из твоего царственного клюва, из твоего позолоченного рта льется византийская речь, слова, которые для меня уже давно не имеют ровно никакого смысла, — для меня имеет значение только волна музыки, поднимающаяся из твоих глубин. Лучшие твои слова я запоминаю для того, чтобы накормить ими изголодавшихся желторотых птенцов.
Они питаются царственными слоганами, никелированными машинами вымысла, прекрасными стихотворениями, которые созданы при помощи последних достижений точной механики и античной эротики.
Они есть наши дети.
Наши дети, не по крови и не по родству, но именно в них мы с тобой получим свое продолжение, мы не знаем их имен, мы никогда, быть может, не увидим их лиц и не услышим их голоса, но именно в них оживет наш дух, выскользнув из сложной цепи смертей и рождений, не подчинившись наследственности.
Это будет самая великая линия родства, это будет великий род Сириных, птиц в человеческом облике, паранормальных существ, воскресших выкидышей, геркулесов, шепотом передвигающих все престолы этого мира, воскресшего несколько миллионов лет назад благодаря моей улыбке.
Наши птенцы прекрасны. Они вырастут и впитают через поры то, что другие постараются употребить в пищу и размолоть зубами.
Они не вышли из нашего чрева и не являются нашим физическим продолжением, мы собирали их по всему темному лесу истории, они вывалились из гнезд, они пищали в траве незнания.
Небо — это молот, земля — это наковальня. Небо бьет о землю, и сыплются искры. Раскаленные птицы летят во все стороны, птицы в человеческом обличье, их крылья горят во тьме ночной.
Ты и я.
Ты падаешь с ветки вниз и летишь над моим лицом, как будто оно бесконечный пейзаж. Я смотрю на тебя снизу вверх и восхищаюсь твоими вытянутыми прекрасными линиями, особенно меня волнуют твои плечи и бедра, твоя шелковистая кожа, искрящаяся на фоне голубого неба. Ты паришь легко и свободно, садишься на купол храма, на самую вершину золотой горы и осматриваешься на все четыре стороны света.
Справа от тебя — пшеничное поле, слева — рига. Ты бьешь крыльями, взлетаешь и плавно превращаешься сначала в пятно, потом в точку и медленно исчезаешь за горизонтом.
Я слышу, как за стеной ударила железная дверь лифта.
Я опять остаюсь один.
Я уже начинаю скучать по тебе.
Я смотрю на твои помятые джинсы, на майку, безжизненно обвисшую на стуле, на стакан на подоконнике, в котором осталось несколько капель вина, и долго не могу сосредоточиться.
И вдруг получаю удар в спину. Дирижабль сорвало ветром с причальной мачты, и он изо всей силы бьет мне в спину, я падаю лицом в древнюю Ассирию. И долго потом вычесываю из волос трупы солдат: мидийцев и египтян, я трясу головой, и они сыплются, сыплются на пол, они скрипят под ногами.
Я сажусь на холодный пол, закрываю глаза. Мне хорошо в моей тьме, она не похожа ни на одну другую бессолнечность и нелучезарность. Я слушаю тишину, вдруг свистит чайник, выплевывает свисток и замолкает, мое сердце дрожит мелкой дрожью, в моем почтовом ящике лежат слова, отпечатанные на газетной бумаге, адресованные мне, бумага, на которой слова напечатаны, еще может гореть, а сами слова ни на что не годятся. Во мне только что умерли чувство справедливости и желание изменить мир к лучшему.
Читать дальше