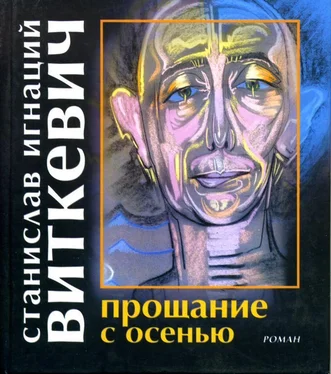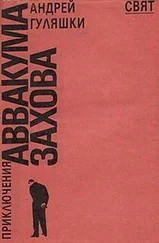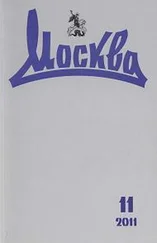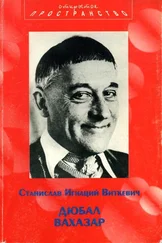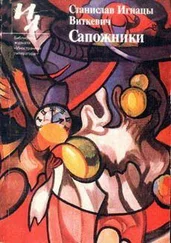Логойский смертельно скучал, а тот продолжал говорить, выпуская долго сдерживавшийся мысленный хаос.
— На том, чем нас теперь кормят, никто долго не протянет, а мы все ждем «великого слова», того, что пишется с большой «С» — дурные романтические привычки! Это слово умерло как общественное или национальное откровение. Несознательные творцы будущей реальности это разрешат, но не те, кто сегодня прикидывается властителями сами перед собой под маской якобы общечеловеческих умеренных взглядов, этой тепленькой водицы, от которой уже тошнит все здоровые натуры...
— Тошнит и тебя, и тебе подобных, а вас никак не назовешь здоровыми. Вам хочется катастрофы только затем, чтобы закончить интересно, — злобно прервал его Логойский. — Ты знаешь, какое ты производишь на меня впечатление: человека, который из-за боязни быть зарезанным во время революции начинает менять взгляды. И при этом наблюдает, не становится ли та ложь, на которую он сподобился, слишком заметной и не слишком ли далеко забрал он влево в то время, как даже менее значительный маневр мог спасти его жизнь.
— Клянусь, что не так. А впрочем, это противоречит сказанному тобой ранее.
— Знаю, я говорил это в переносном смысле.
— Психически, может, и есть что-то такое, я пытаюсь спастись любой ценой, но вот во имя чего — не знаю, животный инстинкт.
Его охватило жуткое отвращение. Весь этот разговор представился ему невыносимой бессмыслицей. Омерзение ширилось, захватывая все новые и новые пространства: Логойского, Зосю, все проблемы, всю жизнь. Вырваться отсюда, убежать, забыться. Он почувствовал, что бежать пришлось бы от себя, и понял, что он обречен на пожизненное заключение в самом себе: он ощущал себя одновременно и как узника, и как его клетку. Безграничное мучение продолжалось — во имя чего?
Тут зажглись две лампы — одна под потолком, а вторая, с зеленым абажуром, у кровати. Серый больничный час был закончен. Вихрь смутных понятий, вознесшихся над серой, дохлой действительностью, улегся. Атаназий вздохнул: все решит сама жизнь, надо дать потоку нести тебя и раз и навсегда отказаться от попыток скомпоновать события; это было самое трудное. Новая проблема, поставленная так просто, примирила его с бытием. Пусть все идет своим чередом — посмотрим, что будет. Эта максима с той минуты стала его девизом. Логойский молчал, набухая изнутри от неизъяснимых намерений. Разговор с Атаназием с новой силой завел в нем желание наслаждаться жизнью. Он решил стать «туристом среди развалин» — и ничем более. Осматривать как внешний, так и внутренний мир самым интенсивным и привлекательным способом, даже если бы пришлось умереть от известных или не известных ему до сих пор наркотиков. Все для текущего момента и ничего не откладывать на потом: кокаин не кокаин — все едино. Ему нечего было терять, о своих мозгах он не заботился, первое насыщение жизнью он уже имел за плечами, так называемые «идеалы детства» практически исчезли. Он ощутил блаженную и бесшабашную свободу. Вот только этот Атаназий... Но и с ним можно справиться. Как раз с ним посетить эти неизведанные области ощущений и состояний. Атаназий снова попытался что-то сказать. Он хотел словами прикрыть пустоту ускользающего мгновения, но не мог. Легко сказать: «отдаться течению», но что делать, если течения нет?
— Если бы ты знал, что это за мука хотеть все сразу — это высшее желание, а не желание наслаждаться жизнью — и не мочь... Я хотел бы всем быть, все пережить, соединять в себе самые дикие противоречия до тех пор, пока не лопну, будто сам себя на кол насадил.
— Ты смешон. То, о чем ты говоришь, как раз и есть источник художественного творчества, как говорит Зезя Сморский.
— Ты жрешь, как свинья, без разбору все подряд, что тебе само в руки попадает, твои аппетиты — низшего порядка, это вовсе не метафизическая ненасытимость. Я знаю, что такие феномены, как мы, неприкаянные люди, были во все эпохи, но сегодня особенно трудно пережить себя существенным образом. Иногда я мечтаю о каком-нибудь салоне восемнадцатого века: тогда бы ничто не сдерживало мои философские бредни...
— Только в том случае, если бы ты был жалким прислужником какого-нибудь важного господина, а не салонным красавчиком. Помни, ты — не аристократ, и (впрочем, это не важно) тогда ты был бы на другом месте, а не там, где ты сейчас. Тошнотворная демократия, как презрительно ты ее называешь, дала тебе возможность разговаривать со мной как равный с равным и иметь время на свои умственные упражнения. Потому что ты не надклассовый великий мыслитель, способный выйти из плебса и взойти на вершины своего времени.
Читать дальше