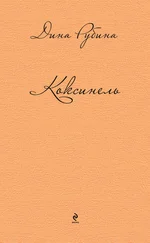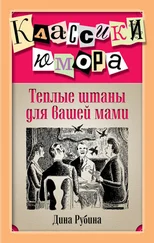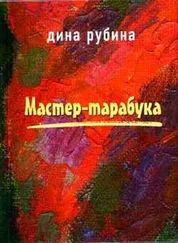Главное, с мамой ничего не было страшно, она умела все – перелицевать пальто, торговаться на базаре, сварить из пустяка борщ, нашить пеленок из рваного пододеяльника, – вероятно, для этого в свое время она окончила Сорбонну. Словом, Ирина Михайловна выросла в уверенности, что крепкий человек мама не подкачает.
Но мама подкачала. Она умерла в одно мгновение: стояла у окна с пятимесячной Сонечкой на руках, вдруг сказала спокойно:
– Что-то нехорошо мне, Ира, дай-ка воды, – успела опустить ребенка в коляску и – у мамы никогда ничего не болело! – упала навзничь.
Когда, расплескивая воду, Ирина Михайловна прибежала со стаканом из кухни, мама лежала на полу и уже не дышала. Дипломированный врач Ирина Михайловна долго ползала вокруг мамы, как медвежонок вокруг убитой медведицы, оглашая воем квартиру, пытаясь делать искусственное дыхание, не понимая, почему у мамы нет пульса и вообще ничего нет.
Так что вот какое дело... После похорон на песчаном полупустом кладбище (мама! где Сорбонна, где отец, где отныне твоя могила.) – после похорон оцепеневшей Ирине Михайловне надо было решать что-то с Сонечкой. Были, были ясли от комбината, да черт бы их побрал эти ясли. Ребенка жалко.
Тут предложила услуги соседка, Кондакова. Она работала телефонисткой на почтамте, дежурила через двое суток на третьи и готова была посидеть с ребенком. Недешево, конечно, за бесплатно дураки сидят. Но выхода не было. В дни дежурств Кондаковой Ирина Михайловна приносила Сонечку в санчасть, и та ползала в ординаторской сама по себе, заползала в углы, доверчиво оставляя там лужи.
Нет, с Сонечкой надо было что-то решать. Да и по хозяйству ничего не успевала Ирина Михайловна. После работы Сонечке кашку сварит, а о себе уже и думать некогда. Простирнет то-дру-гое, а убрать уже и сил нет. В доме стало запущенно, под шкафом пыль каталась. Мама, мама.
Словом, необходим был человек в доме. Где, спрашивается, в этом городишке взять человека?
Из года в год комбинат заглатывал, перемалывал, переваривал сотни заключенных из близрасположенного лагеря, пленных японцев, ну и конечно, вольнонаемных рабочих.
Любка была вольнонаемной...
Вечером она явилась все в той же линялой кофте – ни чемодана, ни узелка. От нее веяло гордой бездомностью. Привалилась плечом к стенке в коридоре и сказала:
– Я сегодня к ребенку не подойду. Здесь, в прихожей, лягу. Киньте какое старое одеяло на пол.
Недоумевающая Ирина Михайловна подчинилась. Как выяснилось в дальнейшем, Любка умела распределять интонацию во фразе так, что исключались вопросы и уточнения. И жест еще делала рукой, легкий, отсылающий – мол, а слов не надо.
Наутро, в воскресенье, Любка поднялась рано, потребовала керосину и часа три, запершись в ванной, мылась.
– Вшей выводит, – злорадно догадалась Кондакова. Уплывали от нее нянькины денежки, и это было ей чрезвычайно досадно. Она стояла у своего примуса, бодро помешивая ложкой кисель, и ждала событий. Кондакова была невеста среднепожилого возраста, с круглыми глазками цвета молочного тумана, с выщипанными, как куриная гузка, надбровьями, на которых она, слюнявя коричневый карандаш, каждое утро рисовала две острые, короткие, вразлет бровки.
Наконец Любка вышла – голая и парная, спросила чистую одежду, и, пока Ирина Михайловна копалась в шкафу, подбирая что-нибудь из своего скудного гардероба, Любка, обмотанная полотенцем, непринужденно тетешкалась на кухне с Сонечкой. Кондакова, делая вид, что мешает в кастрюле кисель, косилась на Любкины босые, мраморной красоты ноги и пыталась прочесть наколку. Прочесть было нелегко, и Кондакова, щурилась и клонилась к полу. Когда от любопытства, она совсем загнулась коромыслом, Любка вдруг подняла ногу и ткнула ступню к лицу Кондаковой.
– На, читай, близорукая, – предложила она многообещающим голосом. Кондакова подхватила кастрюлю и унеслась в свою комнату, где скрывалась до вечера.
А Любка облачилась в мятое клетчатое платье, сшитое когда-то лучшей ташкентской портнихой для выпускного бала, и долго возилась у печки, не без удовольствия ворочая кочергой в огне топки пожившую зеленую кофту.
– И вот что, доктор... – ласково щурясь в танцующих бликах огня, проговорила Любка. – Вы моих денег мне не давайте... Складывайте где-нибудь... чтоб я места не знала...
Она сразу взвалила на себя всю работу по дому. Скребла, стирала, кипятила, варила, возилась с малышкой – самозабвенно. В народе про такое говорят – пластается. Ирина Михайловна переживала, пыталась придержать ее – куда там! Просто когда Ирина Михайловна возвращалась из санчасти, дом оказывался прибранным, обед приготовлен и укрыт старым маминым платком, ребенок накормлен и угомонен. Всего за два-три дня жизнь Ирины Михайловны задышала теплым ухоженным бытом, словно мама вернулась, и от этого по вечерам тоненько скулило сердце.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу