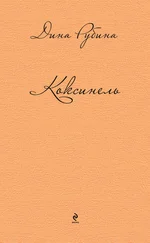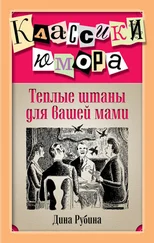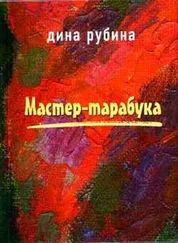Молочная пленка клея на сапоге скатывалась в крохотную трубочку и медленно слетала на ленту конвейера, на пол. Кириллваныч однообразно двигал щеткой движением церемониймейстера полкового оркестра, поднимающего и опускающего жезл в ритме марша, весело повторяя: – Р-раз – и вся любовь! Р-раз – и титька набок!... Держи, цыпа!
У Веры получалось хорошо, ловко. Только прицепилась дурацкая присказка Кириллваныча. Она орудовала щеткой и мысленно повторяла: «Р-раз – и вся любовь! Р-раз – и титька набок!» Прицепилась, ну что ты станешь делать! Вера злилась, пыталась вспомнить какую-нибудь песню, чтобы напевать ее про себя, но, как ни странно, именно эта пошлая припевка налаживала нужный ритм работы.
С утра лента конвейера, казалось, шла медленно. И сапог щеткой обмахнуть успеешь, и по сторонам глянуть – что где творится. К обеду руки наливались тяжестью, уже не до разговоров было, успевай только хватать плывущий прямо на тебя сапог и проведить по нему щеткой, и уже не казалось, что конвейер движется медленно. А к концу смены ломило спину, шею, затылок, затекали ноги, и в глазах появлялось бледное мельтешение от сапог, словно досыта насмотрелась выступления ансамбля песни и пляски.
В обеденный перерыв шли в столовую, а кто с собой приносил – обедал тут же, в цеху. Кириллваныч доставал и разворачивал газетный сверток, ногтем счищал с вареной картофелины отпечатки передовицы или фельетона, посыпал крупной солью огурец, надкусывал с хрустом и говорил, кивая в сторону мутного окна, за которым по кирпичной дорожке шли в столовую рабочие:
– Ихний харч в зубу застриёт!
Ел с аппетитом свои нехитрые продукты, заготовленные с вечера, иногда даже любовался каким-нибудь атласным «юсупов-ским» помидором, с курьезно и неприлично торчащим из сердцевины клювиком, поднимал его повыше, говорил:
– На бесптичье и жопа – соловей!
Вера чаще всего не обедала – не хотелось. В то время ела она плохо, много думала, вглядывалась во всех странным своим, неотрывным взглядом. Со всеми чувствовала себя наблюдателем. Будто смотрит на людей издалека, в бинокль, и по-всякому может увидеть – может крупно, вблизи, так что видны будут вертикальная складка между бровями и красное родимое пятно в проплешине, на темени... А может охватить человека дальней цельной панорамой, так что виден лишь силуэт и различима только походка – внаклон, вот как курица ищет просо в пыли. Но зато человеческая фигура вписана в пространство так, что глаз не разделяет вещества, из которого создано живое и неживое, вернее, все в этом пространстве, сотканном ее взглядом, делается живым, шевелящимся, теплым...
Уже тогда ее мучили лица. Однажды увиденное лицо – не каждое, а лишь то, которое просило воплощения в другую жизнь, – не оставляло ее никогда, вдруг всплывало во сне или за работой, и она мысленно – как слепой легкими беглыми пальцами – ощупывала лепку этого лица, его строй, конструкцию, настроение и цвет... Вряд ли кому она могла бы это объяснить...
Рисовать на людях стеснялась, но дома, поздними вечерами, карандашом или тушью набрасывала накопленное за день – выбрасывала, сбрасывала его в шестикопеечные ученические альбомы. И тогда появлялись на бумаге вострые глазки на сухом личике Кириллваныча; вечно озабоченное, все какое-то кустистое, бульдожье – брови торчат, усы торчат, даже из бородавки на лбу куст растет – лицо начальника смены Семенова. Чаще всего, уже привычно, рука рисовала круглую, с носиком-кнопкой, плутовскую физиономию Лепёшки. «Лепёшка» – это прозвище. Может, из-за широкого затылка, приплюснутого от долгого младенческого лежания в бешике – колыбели. А вообще – узбекский парнишка, Арип, Арипчик. Фамилия – Хлебушкин. Он детдомовский, а их директор Антонина Ивановна Хлебушкина всем сиротам свою фамилию давала. Лепёшка хорошо говорит по-русски. Маленький – Вере до плеча, – но страшно самостоятельный, веселый и умеющий добывать из происходящей вокруг жизни самую разнообразную пользу: выпрашивал у обедавших бутылки из-под кефира и минералки, сдавал; выпросил однажды у учетчицы Зухры старые ее босоножки, со сломанным каблуком, обломал второй и явился в них – с видом именинника. В столовую прибегал последним, хватал стакан прозрачного кислого компота с плавающими в нем лохматыми ошметками лимона, а с тарелок на столах – куски недоеденного хлеба; уминал за обе щеки, плутовски подмигивая поварихам, за что получал иногда со дна огромной кастрюли серую общепитовскую котлету. Вера про себя называла его «Маленький Мук». Неунывающий Маленький Мук.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу