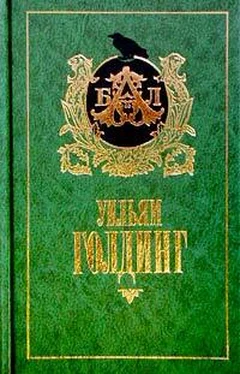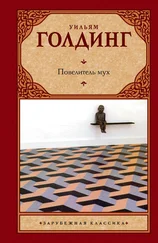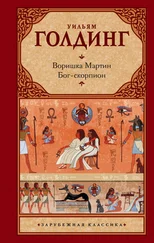Как же ей удалось так цепко ухватиться за самый центр всей моей тьмы, если единственное настоящее чувство к ней — ненависть.
Бледное лицо, розовые пятна. Последняя попытка, и я знаю неизбежную фразу, которую средоточие намеревается произнести. И она звучит тотчас, а интонация немедленно поднимается до уровня верхнего ящика письменного стола.
— Нет.
В этом одном слоге уж никак не меньше трех гласных.
— Зачем же тогда ты пришла сюда со мной?
Три пятна.
— Я думала, ты джентльмен.
Само собой.
— Ты меня утомляешь.
— Пожалуйста, отвези меня домой.
— Ты и вправду так думаешь? В двадцатом-то веке? Ты и вправду обиделась? Ты не можешь сказать просто: «Нет, очень жаль, и все-таки нет?»
— Я хочу домой.
— Но послушай…
Я должен, должен, что же ты, не понимаешь, сучка паршивая?
— Тогда я поеду на автобусе.
Одна попытка. Только одна.
— Погоди. Мы говорим совсем на разных языках. Только я хочу сказать тебе… нет, это сложно. Только неужели ты не понимаешь, что я… Мэри, я сделаю что-нибудь и докажу тебе!
— Мне очень жаль, но в этом смысле ты меня не интересуешь.
И следом — он, сдерживая поднимавшуюся затоптанной тропкой ярость:
— Значит, все-таки — нет?
И последний удар торжества, понимания и сочувствия:
— Мне очень жаль, Крис. Мне действительно очень жаль.
— Я знаю, ты станешь мне сестрой.
И ответ, поразительный, ясный, отметающий всякий сарказм:
— Если ты захочешь.
В ярости он вскочил на ноги.
— Идем. Христа ради, пошли отсюда.
Ждать, как тень на сиденье водителя. Что же она, совсем не знает меня? Вот она выходит из дому, ножка выставлена вперед, как на снимке, и идет по незримой, натянутой над гравием веревочке, неся над собой знамя необоримой девственности.
— Дверь плохо закрылась. Дай-ка я.
Легкий запах духов, касанье дешевенького, обжитого ею твида, рука на баранке, дорога, относящая их назад, по-военному затемненные фонари, никому не подчиняющиеся летние молнии, которым нет дела до всяких там правил; молнии, которые мчат в семимильных башмаках от того вон холма далеко на юг, тяжело ставя ноги; бахрома листьев, мелькающих, как цветные пятна, деревья, которых коснулся и вызвал из небытия свет боковых фар, которые тотчас же валятся в пропасть вслед за потерянными надеждами.
— Ты не слишком ли быстро едешь?
Склоненная щечка, поджатые губки, глаза из-под дурацкой шляпки, отстраненные, потемневшие. Тяжелая поступь.
— Пожалуйста, Крис, помедленней!
Визг протектора, скрип баранки, удар и рев…
— Пожалуйста…
Рывок, толчок, шелковый шелест тормозов, мелькание кадров пленки.
Скала.
— Пожалуйста. Ну пожалуйста!
— Тогда разреши. Сейчас. Здесь, в машине.
— Пожалуйста!
Съехавшая набок шляпка, развернувшаяся дорога, тоннель деревьев, всосавший…
— Я разобью машину.
— Ты сошел с ума… о, пожалуйста!
— На развилке дороги есть дерево с побеленным стволом, и я врежусь в него твоей стороной. Шарахнет — только мокрое место останется.
— О Господи, Господи!
В кювет, ворох тряпок, удар, разворот, сдирая дорожное покрытие, стягивая, спихивая назад вместе с потерянными надеждами, сталкивая вниз во времена подвала…
— Мне дурно.
— Так ты не хочешь со мной? Не хочешь со мной?
— Пожалуйста, прекрати.
На обочине, где ступили две ножки, с мертвым двигателем и огнями, обхватив тряпичную куклу, обирая тряпичную куклу, оживавшую при вспышках летней молнии, с коленками, сомкнутыми над спасаемой девственностью, куклу, которая тянет одной рукой все ту же твидовую юбку, другой отбивается, а полуголую грудь защитить может только криком.
— Я буду кричать!
— Валяй, кричи!
— Ты, грязная скотина…
И потом, всего в нескольких дюймах, отблеск летней молнии на белом лице, застывший взгляд глаз искусственно созданной женщины, запутавшейся в своих уловках и отговорках, вынужденной смириться с собственной грубой, человеческой плотью, — глаза, в которых застыло выражение непримиримой, глубокой ненависти.
Нет никакого уровня верхнего ящика. Гласные потерялись в деревенской картавости.
— Ты что, не понимаешь, свинья? Ты не смеешь…
Последняя попытка. Я должен.
— Я женюсь на тебе.
Еще одна летняя молния.
— Крис. Прекрати смеяться. Ты слышишь? Прекрати! Прекрати, я сказала!
— Я тебя ненавижу. Я не хочу тебя ни видеть, ни слышать, не хочу никогда в жизни.
Питер ехал сзади, они уже выдохлись. Под ним был новенький велосипед, но похуже, чем новенький — Питера. И если бы Питер прорвался вперед, его было бы не догнать. Позицию Питер выбрал удачную и сидел уже на хвосте. Никогда бы он этого не сделал, если бы не был так, до смерти, возбужден. Дорога тут поворачивала вправо, — тут, возле кучки одежды. Кучка одежды была, как скала, — большущая груда камней, приготовленных для ремонта дороги на Ходзоновскую ферму.
Читать дальше