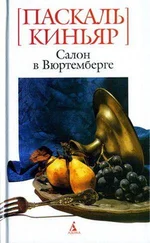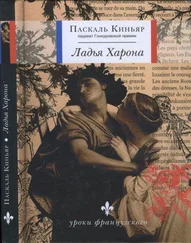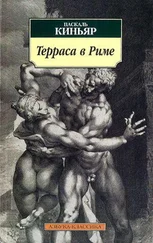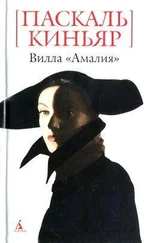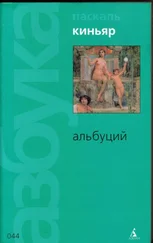– И которая была еще отвратнее, чем игрушки.
– Примерно так. Ну вот, в этот самый кабинет я и пробиралась в мечтах, в воображении, замирая от страха. Пробиралась много раз, даже не счесть. Но именно потому, что это была чистой воды фантазия, я и уверена, что люблю отцовский кабинет больше всего на свете. Я разглядывала сотни рядов книг в ярких переплетах, оранжевые круги света под красивыми абажурами эпохи Наполеона III, старинные кожаные кресла, перья на столе, бороду отца. Подходила к карандашной точилке в маленькой стеклянной витрине, прибитой к стене у двери. Вертела ручку и смотрела, как сыплются из дырочки деревянные очистки с яркими краями. От этой точилки так приятно пахло. Она слегка напоминала молитвенное колесо, которое крутят с гортанными песнопениями монахи-буддисты. От нее исходил легкий, почти неуловимый запах свежего дерева. И еще я чувствовала сладкий аромат сигар.
– У сигар нет сладкого аромата.
– А я говорю, есть, малыш, и именно что сладкий. Я беседовала с отцом. Обсуждала с ним проблемы природы и общества, а он частенько гладил меня по голове по моим длинным волосам, приговаривая: «О дочь моя, Оттилия, как же ты умна! Ты мое единственное, самое любимое дитя на свете. До чего же ты мудро рассуждаешь! Верховный тибетский Лама и тот мыслит не так глубоко, как ты!»
– Мой дед взаправду говорил тебе все это?
Тетушка Отти сунула в рот кусок чесночного сыра и ответила:
– Я видела своего отца только на семейных похоронах.
– Что ты говоришь! Вот ужас-то!
– На похоронах и еще в опере, где пела твоя мать.
– В Королевском фламандском театре на авеню Франкрейклей?
– Да. Хотя, честно говоря, я не находила большой разницы между тем и этим.
– Ну ты знаешь, как я люблю маму!
– Вот в этом я не очень-то уверена.
– А она никогда не называла меня по имени.
– Подумаешь, какое дело! Ни в твоем, ни в моем имени нет ровно ничего замечательного.
– Неужели имена звучат красивее на похоронах и в опере?
– А ты бы хотел, чтобы моя дорогая Годлива произнесла твое имя на твоих похоронах? Или спела бы его, обнимаясь с тенором в белом прозрачном хитоне, на сцене Королевской оперы?
– Ты обижена на своего отца?
– Не больше, чем ты на свою мать. – И она добавила: – Видишь ли, малыш, я не совсем откровенна.
И она залпом допила остатки красного Moinette.
– Скорее, я обижаюсь на себя саму за то, что так ни разу и не осмелилась переступить порог отцовского кабинета. Мне иногда думается: а может, он бы меня и не убил за это? Я вполне могла бы взяться за ту дверную ручку и отворить ту чертову дверь, обитую кожей.
– Все это как-то лишено смысла.
– Э нет, все это имеет глубокий смысл. Самое прекрасное место на земле… я так его и не увидела, но по крайней мере знаю, где оно находится. Знаю, что оно существует где-то там, далеко, растворенное в кружочке света, падавшего на стол из-под старинного абажура. Совсем как здесь. Взгляни, малыш! Вот оно, рядом с чесночным сыром. Самое прекрасное место на земле – оно затерялось тут, в этой лужице света, куда я сейчас кладу твою руку.
Она взяла его руку и положила ее на светлый круг под абажуром коричневой деревянной лампочки. Эдуард был счастлив. После тридцатипятилетней разлуки тетка рассуждала точно так же, как в былые времена. Они сидели вдвоем в этом слегка претенциозном ресторанчике англосаксонского стиля, на обочине шоссе, ведущего от Зебрюгге к Магделену и Экло. Тетка шумно высморкалась, отняла свою руку и встала. Перебрала на банкетке свои четыре сумки, лежавшие сбоку от нее, взяла одну из них, сшитую из разноцветных кожаных квадратиков, и снова уселась. Порывшись в сумке, она достала оттуда портсигар и нажала на замочек; в отверстом зеве портсигара лежали рядком тонкие «сигарки». Тетка вытащила одну из них, прикурила от своей «шейной» зажигалки и выпустила облачко дыма в настольную лампу.
Эдуард отодвинулся. Он рассеянно глядел в пустоту, в окно. Дождь поливал шоссе, идущее на Экло. И вдруг он подскочил и уставился на тетку, которая только что резко защелкнула портсигар. Этот щелчок отдался в его сердце, напомнив удар железной линейки учителя по деревянному столу на возвышении, когда тот призывал к тишине и порядку. Как будто снова учитель ловил его на шалости и бранил, колотя линейкой по столу. Как будто снова он оказывался виноватым, сидя на задней парте у окна и нашептывая что-то на ухо своей соседке.
Но потому-то он и шептался с ней, потому-то его и призывали к порядку в классе лицея на улице Мишле, что оба они были маленькими детишками, сидевшими на задней парте возле окна, в глубине класса. Это странное воспоминание вызвало у него дрожь и внезапно замкнуло уста. Их было двое в том двенадцатом или одиннадцатом классе [41]школы на улице Мишле, по соседству с Люксембургским садом. А тетушка Отти вдруг показалась ему точной копией бывшей маленькой подружки по играм. Сидя здесь, в ресторане, на зебрюггской дороге, он впал в безумие, иначе не скажешь. Рядом с ним вдруг очутилась девочка пяти или шести лет. Он наклонялся и что-то шептал ей на ухо. Их голые коленки соприкасались.
Читать дальше