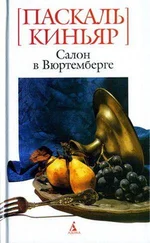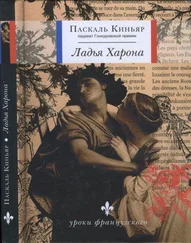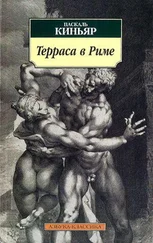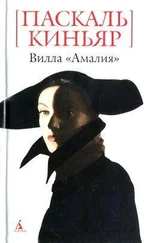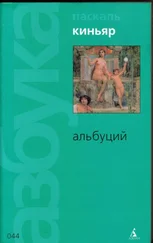Внезапно он оторвался от этого воспоминания; его слегка знобило. Он бессмысленно глядел на лестницу из серого мрамора, на старозаветный лифт с застекленной дверцей, на банкетку с желтым бархатным сиденьем перед собой. Он буквально физически чувствовал, что два слога, составлявшие ее имя, перевернули мир. Чувствовал, что теперь его ждет нечто неизмеримо более важное, чем вся предыдущая жизнь, что отныне река его существования изменит свое течение. Дождь на улице уже стих. Нежданно снова показалось солнце, залившее светом Лилльскую улицу, по которой неслись потоки воды. Он вздрогнул. Поднял воротник своего темного пиджака. Наконец-то судьба поставила его лицом к лицу с настоящим испытанием. И он безумно боялся, что окажется не на высоте положения.
Лоранс поскользнулась, ступив на пол мокрыми ногами. И так и замерла обнаженной, скрючившись в неудобной позе, упершись подбородком в колено; ее взгляд затерялся в зеркале, занимавшем целую стену ванной. По запотевшей поверхности зеркала сбегали струйки воды. Опустив глаза, она взглянула на пальцы ног.
Лоранс только что приняла ванну. Она находилась в своей квартире на авеню Монтень. Ее муж Ив Гено уехал в Гренобль. Он должен был вернуться завтра вечером. Теперь пар заволок все зеркала в ванной. Интересно, как она выглядела? Она подумала об Эдуарде, которому назначила встречу на сегодняшний вечер. Уже не впервые она встречала его на улице. У него такие нежные пальцы. Она почти всегда видела его в обществе лысого мужчины-великана, чем-то похожего на англичанина и одновременно на буддийского монаха; видимо, он работал где-то в районе набережной Анатоля Франса. А еще она видела его вместе с одним знаменитым японцем крошечного роста, всемирно известным миллиардером, чьи фотографии часто встречались в журналах по декоративному искусству, – Маттео Фрире. Лоранс попыталась вспомнить, уж не этот ли Маттео Фрире два-три года назад выступал экспертом одной из коллекций, приобретенных когда-то ее матерью; это собрание культовых предметов кельтов или галло-римлян прочно загромоздило их дом в Солони, к величайшему раздражению ее отца, считавшего подобные «штуковины» мрачным кладбищенским хламом.
Больше всего на свете она любила своего отца Луи Шемена. Он был самым красивым из мужчин, самым щедрым из мужчин, единственным, кому пришла в голову оригинальнейшая мысль – родиться 1 апреля. И те минуты, что она проводила подле отца, становились настоящими первоапрельскими праздниками. Лоранс думала: «Друг друга моего отца – друг моего отца. Значит, друг друга друга моего отца вполне достоин есть пирожные в моем обществе!» С виду Эдуард был лет на десять-двенадцать старше ее. Да, но который теперь час?
Лоранс вскочила на ноги, выпрямилась, прошла в комнату. Семь часов вечера. Ванная примыкала к спальне и будуару со светлыми деревянными панелями и плетеной цветной мебелью начала века; в будуаре было холодно, как в погребе, он был битком набит кадками с лавровыми деревцами, папирусами, которые она ненавидела. Она всегда глядела на этот будуар с отвращением. Само ее тело отвергало его.
Что за легкий акцент проскальзывал в речи Эдуарда? Немецкий? Или голландский? Наверное, он сочтет это помещение омерзительным. Триста квадратных метров на авеню Монтень, где она жила, вдруг показались ей напыщенно-холодными, безобразными донельзя. Никогда она не осмелится пригласить сюда Эдуарда. Лоранс считала, что отцу хотелось сохранить эту квартиру, где жила, а в августе 1968 года скончалась его мать, в том же виде, какой она была при ее жизни. Она была убеждена, что отец оскорбится до глубины души, если она хоть что-нибудь здесь изменит… Нет, это не акцент, просто голос Эдуарда был странно хриплым, звучал как-то необычно. «У него бледное лицо. Черные волосы и при этом удивительно светлые глаза. Те несколько раз, что я видела его на набережной, он носил темные костюмы – что-то темно-синее, темно-зеленое. Я тоже надену что-нибудь темное». Лоранс позвонила.
У нее была горничная Мюриэль, женщина лет пятидесяти, уроженка Лиона. Сама Лоранс в общем-то ничем определенным не занималась: хотела когда-то концертировать, работала моделью, перенесла тяжелую нервную депрессию после смерти брата. Не менее четырех часов в день Лоранс посвящала игре на рояле – она играла превосходно, даром что не на публике; кроме того, она управляла своим состоянием и частично финансировала ежемесячный фотожурнал, редакция которого располагалась на набережной Анатоля Франса. Она посмотрелась в зеркало у себя в спальне. Как всегда, она держалась чрезвычайно прямо, у нее было холодное лицо, она была очень красива. Она принимала ванну дважды в день. Она взглянула на свои руки. Как жаль, что игра на фортепиано требует коротко остриженных ногтей! Это визуально укорачивает пальцы. На средний она надела кольцо с рубином-кабошоном. Она думала: «У него большие, очень веселые глаза, в которых все можно прочесть».
Читать дальше