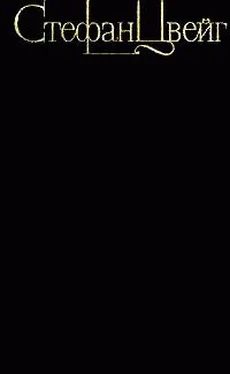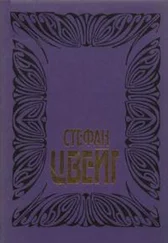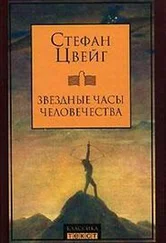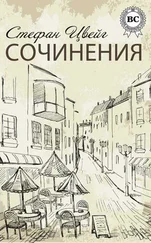Но пусть вчуже дивится разум, пусть остается холодным чувство, не затронутое этой омертвелой верой, и все равно нас потрясает этот величественнейший из средневековых соборов, мы не можем оторвать восхищенного взгляда от этого совершеннейшего произведения искусства, созданного западным миром. И безмерно наслаждение бродить вокруг него, поражаясь воплощенной в камень смелости его плана, возносящейся высоко в небо грузности его башен, мерно-округлому ритму его пропорций, незыблемым, мраморным плитам его языка, всей его неповторимости. Только пройдя под крестовыми сводами его портика к вступив в мистический мир его нефов, в его духовное святая святых, мы почувствуем, как пронизывает нас холод столетий. Да, творение Данте для нас — памятник искусства, окаменевшее героическое прошлое, прекрасный саркофаг христианского средневековья, величественный, как пирамиды, как Парфенон и Нотр-Дам, где так же мертвая идея служит фундаментом вечному строению. Вокруг струится в хаотическом бурлении живая жизнь, волнуемая ветром новых иллюзий, новых слов; но он, Данте, этот собор, покоится в своем величии — застывшая мысль бога на романской земле. Он высится в своей святости и покоится, как дано покоиться только совершенному: его бронзовый колокол отсчитывает не наши часы, стрелки на. его башне отмеряют не наше время. Он ничего не знает о нас: слишком глубоко внизу бродим мы под ним; и мы мало знаем о его последних словах: слишком высоко звучат они, обращенные только к небу. Годы разбиваются о его прочность, слова развеиваются рядом с его величием. И только вечность, самое непостижимое из понятий человечества, достойна сочетаться с ним в сравнении.
Перевод С. Ошерова
При каждом перевороте, будь то война или революция, энтузиазм толпы легко увлекает за собой художника, но по мере того, как идея, его захватившая, принимает облик земной и расхожий, реальная действительность отрезвляет уверовавший в идею ум. К концу восемнадцатого столетия писатели Европы впервые ощутили этот постоянный и неизбежный разлад между социальным или национальным идеалом и его по-человечески непростым воплощением. Вся творческая молодежь, а порой даже люди зрелые восторженно приветствовали французскую революцию, орлиный взлет Наполеона, единство Германии бросили свое сердце в огненные тигли, где плавилась раскаленная воля народов. Клопшток, Шиллер, Байрон возликовали: наконец-то сбудутся мечты Руссо о равенстве всех людей, новая, всемирная республика возникнет на обломках тирании, и крылья свободы совлекут ее наконец с далеких звезд и благостно осенят земной кров. Но чем дальше свобода, равенство и братство заходят по пути узаконения и декретирования, чем решительнее они утверждаются как гражданские и государственные институты, тем равнодушнее отворачиваются от них возвышенные мечтатели; освободители стали тиранами, народ — чернью, братство — братоубийством.
Из этого первого разочарования нового века и родился романтизм. За платоническое приятие идеи всегда приходится платить дорогой ценой. Те, кто претворяет идею в жизнь — Наполеоны, Робеспьеры, сотни генералов и членов парламента, — преобразуют эпоху, упиваются властью, и жертвы стонут под их тиранией. Бастилия оборачивается гильотиной, разочарованные покоряются деспотической воле — склоняются перед действительностью. Но романтики, внуки Гамлета, не способные сделать выбор между мыслью и делом, не желают ни покорять, ни покоряться: они желают лишь одного — мечтать, по-прежнему мечтать о таком миропорядке, где чистое сохраняет свою чистоту, а идеи находят героическое воплощение. И в этом желании все дальше и дальше убегают от своего времени.
Да, но как бежать! И куда? «Назад, к природе», — тому полвека провозгласил Руссо, отец и пророк революции. Но природа у Руссо — это разгадали его ученики — есть понятие отвлеченное, искусственная схема. Природа Руссо, идеальное одиночество, разрезана ножницами республиканских департаментов, неиспорченный народ, о котором мечтал Руссо, стал чернью публичных казней. В Европе но осталось ни природы, ни одиночества.
И романтики бегут еще дальше; немцы, вечные мечтатели, углубляются в лабиринт природы (Новалис), в сказки и фантасмагории (Э.-Т.-А. Гофман), в подземное эллинство (Гёльдерлин), более рассудочные французы и англичане — в экзотику. За дальними морями, вдали от цивилизации ищут они «природу» Жан-Жака Руссо, среди ирокезов и гуронов, в непроходимых девственных лесах ищут «более совершенного человека». Лорд Байрон в 1809 году, когда родина его схватилась не на живот, а еа смерть с Францией, устремил свой путь в Албанию, чтобы воспеть чистоту и героизм албанцев и греков, Шатобриан отсылает своего героя к канадским индейцам, Виктор Гюго восхваляет жителей Востока. Куда только ни бегут разочарованные, чтобы увидеть, как расцветает на девственной земле их романтический идеал.
Читать дальше