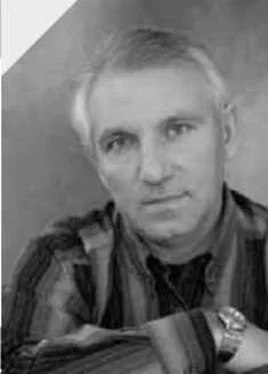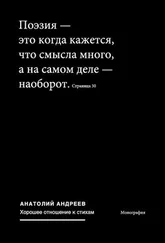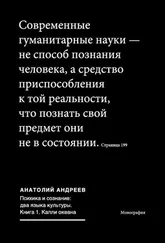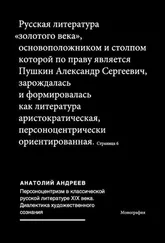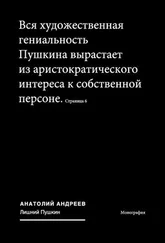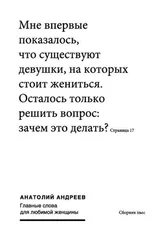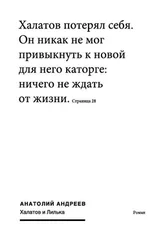Орфей Иванович присел на краешек стула воспитанным истуканом. Хозяйка налила ему вина в бокал — ровно до половины, как и полагается в приличных домах и компаниях. Он не шелохнулся.
Людмила Дорофеевна отпила маленький глоток вина и продолжала:
— В доме моего отца, репрессированного большевиками за то, что он был священником и сыном священника, — доме большом, с прекрасным земельным участком, — встал на постой немецкий офицер с денщиком.
Орфей Иванович мрачно смотрел на свой бокал.
— Они не тронули иконы в красном углу. И мне любезно предложили лучшую комнату, заметьте.
— Сначала вероломно напали на нашу страну, потом вломились в ваш дом, а потом вам предложили комнату в вашем же доме? Сразу видно: культурные люди.
— Не будьте таким наивным и занудным. Мужчины всегда воюют, а военным надо было где-то жить. Так было всегда, во все времена. Но офицер с денщиком вели себя вежливо, не позволяли себе никакого хамства, всегда «битте» и «данке шен». У обер лейтенанта были до блеска начищенные сапоги, великолепный одеколон, гладко выбритое, ухоженное лицо, голубые глаза. Как у вас. Он вообще чем-то напоминал вас. Вы знаете, он обращал на себя внимание. Однажды, когда я слушала по радио сводку Совинформбюро, — да, да, я легкомысленно нарушила строгий запрет — в комнату ко мне постучался офицер, герр обер лейтенант, звали которого, дай Бог памяти.
— Ганс. Или Фриц. Что, впрочем, одно и то же.
— Не ёрничайте, Орфей Иванович. Вам это не идёт. Его звали Рихард.
— А зачем он постучался в вашу комнату?
— Что за вопрос?! Надеюсь, это не пошлый намёк? Не помню уже. Так вот. Со страху я выключила радиоприёмник, но оставила его на прежней волне. Он вошёл, пристально посмотрел на расположение антенны — и сделал вид, что ничего не заметил. Он, конечно, обо всём догадался. Вообще, он вёл себя очень прилично, хотя, кажется, был ко мне неравнодушен.
— За победу над фашистской Германией, нашим злейшим врагом, — сказал Орфей Иванович и залпом выпил вино. Людмила Дорофеевна вновь проигнорировала его тост.
— А его денщик, представляете, постоянно насвистывал арии из опер. Он знал весь мировой репертуар и обожал Чайковского. Кроме того, он бесподобно ухаживал за цветами. Такого цветника я не видела в своём доме никогда. Боже мой, какие он вырастил розы! Уму непостижимо!
Орфей Иванович налил себе бокал до краёв.
— А когда немцы вынуждены были отступать, то денщик аккуратно собрал вещи и целый день, насвистывая без единой нотки фальши и жмурясь от солнца, сажал морковку в огороде — под линеечку, строго по линии. Забивал колышки, натягивал верёвочку — и только потом сеял семена. «Зачем вы это делаете?» — спросила я, разумеется, по-немецки (в школе мы все учили немецкий). «Ведь вы же отступа., простите, уходите. Вы не увидите результатов своего труда». Он перестал свистеть, посмотрел на меня и ответил:
«Но ведь вы же не уходите, фрау Людмила. Здесь будут жить хорошие люди. Я хочу, чтобы после нас остались лучшие воспоминания». Представляете? Потом пришли солдаты Красной Армии в грязных сапогах и растоптали весь посев морковки. Нет, не весь, кое-что выросло, и морковка оказалась чудесной, просто чудесной. А по телевизору и в кино немцев представляют варварами, дураками и садистами. Это враньё, и больше ничего. Меня это возмущает. Я просто не могу смотреть военных фильмов.
— А я убивал немцев, — задумчиво сказал Орфей Иванович. — У одного были начищенные сапоги, а я взял и убил его.
— За что?! — воскликнула Людмила Дорофеевна, в ужасе закрывая свежее лицо руками.
— За то, что он хотел убить меня. Прострелил мне ногу своим крупнокалиберным, и в мой грязный сапог набежало с литр крови. Едва Богу душу не отдал.
— А за что он хотел убить вас?
— Вы не поверите, Людмила Дорофеевна, но этот фашист положил почти половину нашего батальона. Нельзя было нам атаковать с той гибельной позиции, нельзя. Поляна простреливалась вражеским пулемётом насквозь. Я ведь сказал об этом комбату, царство ему небесное.
— А он, что, не послушал вас?
— Приказы на войне не обсуждаются, Людмила Дорофеевна. Они выполняются. Глупые приказы — тем более. Любой ценой. Мои лучшие друзья лежат под Белой Церковью. Я забыл спросить того гада, зачем он убивал наших солдат. Мне было не до того. Я убил его, всадил в него три пули, всё, что оставалось в обойме, а потом ещё и штык-нож вонзил, со скрежетом. Наверное, задел за рёбра, хотя мне показалось, что у него вместо сердца — камень, и я сталью — по камню. А потом я сел и заплакал. Мне ребят было жалко. Лешку. Матвея. Потом меня подобрала санитарка, славная девушка. Через два дня её убили… Её Лешка любил… Я не долечился в госпитале, сбежал на фронт. Мне хотелось убивать этих нелюдей, с камнями вместо сердца, ещё и ещё. У меня была другая война, Людмила Дорофеевна. Там не сажали морковку и не насвистывали арий. Извините.
Читать дальше