…Она не знала, не видала, что я здесь. А я уже ничего не мог изменить.
Не снимая маски, я сидел на дальнем краю стола и всё ещё не мог прикоснуться к рюмке. Я никого не знал здесь, кроме неё. И никому не открыл своего лица. Они сидели рядом — новоявленные родственники, пьяницы, поварихи, сутяжники и сплетники, — обсуждали приданое, глазели на молодых, вспоминали собственные мелкие обиды, ссорились и пили мировую. Они разбредались, снова сходились, пускались в пляс и валились на стулья. Привычно кричали «Горько!», давно не наблюдая в зале жениха и невесты. У них было столько забот, столько надежд на завтрашний день. И никому не было дела до страшной моей трагедии.
Неужели, она правда счастлива?! Разве может такое быть? Счастлива не со мной. И почему теперь, когда так давно разошлись наши пути, у меня всё ещё не хватает сил поверить в это?
Нет, я должен был прийти на этот праздник. Чтобы увидеть её счастье. Чтобы просто посмотреть ей в глаза. В те глаза, которые когда-то так радовались моему лицу, перед которыми я бы простоял на коленях целую жизнь.
Если бы я снял свою маску! Если бы я открыл ей своё лицо!
Но что стало бы с ней, если б она увидела здесь меня? Что я мог принести сюда, кроме смятения, кроме гнева или жалости? Что я мог дать ей, безжалостный, равнодушный, больше привычный к оружию, чаще других проливающий кровь. Я так давно обручился с горем и даже с ней не снял с себя безобразного его кольца.
И тогда я понял, что навсегда опоздал к ней. Что она ушла совсем и никогда больше не вернётся, не напишет, не позвонит, не произнесёт вслух моего имени. Хотя ещё вчера, какой-то день назад, она могла это сделать. Могла вернуть наше счастье.
Она стояла у дверей, такая же статная, такая же красивая, как и прежде. Уходили последние гости, прощались случайные знакомые и дальние родственники. Кто-то уже нёс её шубу и распахивал салон свадебного автомобиля. Она так и ушла, не дождавшись, когда поднимется и выйдет последняя засидевшаяся за столом маска.
Я так и не подошёл, так и не протянул ей своей руки.
…Я сидел среди порожних рюмок, грязной посуды, остатков салата и ничего не видел перед собой, кроме пропасти, в которую провалилась моя жизнь. Если бы у меня были слёзы, я бы плакал. Если бы здесь были люди, я бы принялся пить. Но никого не было в пустом зале, где валялись на полу никому не нужные игрушки: разбитые ёлочные шары, конфетти, мишура, поломанные цветы. А я сидел за пустым столом, стягивая шутовской свой парик — эту печальную маску смеющегося клоуна. Весёлую маску, скрывавшую за беззаботной улыбкой непоправимую свою беду.
…Какой страшный сон! Зачем он приходил в эту ночь?!
Я понял, что настало время навсегда отказаться от счастья. Настало время закончить мучительную эту историю. Теперь я знаю, что никогда больше не позвоню, не напишу и ни о чём не спрошу её. Не потому что перестал любить. Потому что боюсь, что всё это будет правдой.
Она так и не подарила мне фотографию, где мы вместе. Остался лишь он, давний мой сон, и нежное её имя: Наташа, Натали, Наташенька.
Я хочу ещё раз прийти на этот маскарад. Хочу снова увидеть этот жестокий сон. Я начал забывать, как выглядит её лицо.
Он подошёл ко мне на автобусной остановке с просьбой закурить. Было уже темно, дул ветер, и у меня в руках все не хотели загораться спички. Я сжёг их около десятка и наконец, одолжив у прохожего зажигалку, протянул ему огонь. Прохожий не глянул на нас сначала, а, присмотревшись, лишь брезгливо поморщился и махнул рукой: «Можешь оставить». Мы сели на лавку и закурили.
— Как дела-то? — спросил я его.
— Трудно сейчас, зима. Обогреться бы по-человечески, да дров не хватает. Где их взять в городе, дров-то?..
— Давно здесь?
— Час почти брожу. А здесь давно. И Красноярск знаю уже много лет. Столько здесь пережито у меня и даже забыто.
— Не заладилось?
— Как видишь, не заладилось.
— Старик, расскажи, как жизнь прожил. Что было у тебя в ней?
— А чего рассказывать? Разве много было хорошего?.. А если что и было, сейчас не упомнишь. Жаль, мимо всё прошло.
Я с матерью рос, отец после войны от ран умер, мы и остались вдвоём. Тяжело жили, в нужде, в трудах, часто не только хлеба — соли в доме не было. Вырастила меня мать, вытолкнула в люди, первым стахановцем в колхозе стал, никто до меня таких хлебозаготовок не добивался. Вся деревня, семь тысяч душ, за руку со мной здоровалась, старики в гости звали. В район меня возили показывать, грамот в избе нашей с какими только подписями не было. Гордилась мной мать, сильно гордилась.
Читать дальше



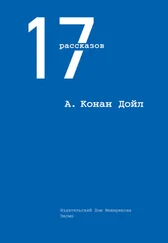


![Артур Порджес - Рассказы [компиляция]](/books/419737/artur-pordzhes-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)



