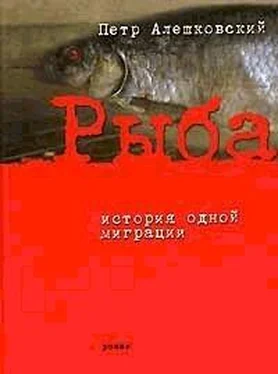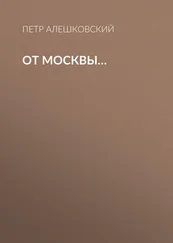На четвертый день от души отлегло, исчезла напряженность в теле, прошло одеревенение, руки и ноги начали меня слушаться, я сама добрела до туалета. Павлик раздвинул шторы — свет уже не резал глаза, я спокойно смотрела в окно. Шумы с улицы не терзали, как в первые дни, но приступы удушья продолжались. Сил в теле не было никаких, но кожа обрела чувствительность, в пальцах рук и ног закололи сотни иголок — признак вернувшегося кровообращения. На закате четвертого дня я в первый раз съела две ложки размоченной в кипятке белой булки.
Болезнь отступала толчками. На шестой день я почувствовала, что могу говорить, но молчала, боясь сглазить. Разбитая бровь саднила, и я радовалась боли как чему-то живому, сменившему неживое наваждение.
Вовка подловил Геннадия где-то в городе и крепко ему врезал. Я слышала, как он рассказывал об этом Павлику, но не испытывала гордости за заступника. Тайком от всех теребила застывшую корочку на брови, вызывала сладкую боль. Стыдно было в этом себе признаться, но я хотела посмотреть на Геннадия, мне нужно было взглянуть ему в глаза. Я его не боялась — это было другое, не передаваемое словами страстное желание. Тонкий шрам на правой брови — память о Харабали — сохранился у меня навсегда.
Через неделю Геннадий приполз домой, его шатало от усталости, как нагулявшегося кота. Вовка ли его проучил или он сам что-то понял, но уже с порога Геннадий стал просить прощения — раньше не делал этого никогда. Он что-то бормотал о смирении, о бесах, плакал похмельными слезами, тянул ко мне руки. Семь дней я почти ничего не ела, но встала с кровати, надела халат, подошла к плитке и поставила чайник.
Он потянулся за мной на кухню, я повернулась к нему и спокойно, глядя в глаза, сказала:
— Когда сойдет синяк, мы уезжаем в Волочек. Садись, ешь.
Взяла со сковородки жареную рыбу, и с наслаждением съела кусок. Он, дурак, воспринял это как знак примирения, полез было целоваться, но я положила ему еду на тарелку, ушла в комнату. Знала, что следует сделать, должна была сдать его на руки матери. Жить с ним дальше под одной крышей я больше не хотела.
3
Вчера уехал Марк Григорьевич. Несколько раз в год он обязательно наезжает в Москву — дает концерты в консерватории, проводит мастер-классы, занимается с молодыми. Две недели в Москве расписаны у него поминутно, но каждый день он успевает заскочить к матери в комнату — о чем-то с ней разговаривает. Бабушка лежит очень спокойно и часто, довольная и умиротворенная, засыпает. Их беседа получается односторонней, но каждый раз ему кажется, что мать его, наконец, поняла. Видно, так ему легче. Выходит из комнаты, — я никогда не присутствую при их «разговоре», — улыбается мне:
— Вера, сегодня мы с мамой вспоминали детство. Я видел, ей приятно, она улыбалась, а потом устала и заснула.
— Да-да, Марк Григорьевич, она и у меня часто засыпает, когда я ей читаю. Это хорошо, значит, ничто ее не беспокоит.
Мы играем в игру, которая и не совсем игра, если задуматься.
Со мной он не церемонится, смотрит на часы, всплескивает руками, убегает — в Москве у него всегда много дел.
У бабушки есть две племянницы — старые пенсионерки, они претендуют на часть квартиры, завещание известно — бабушка Лисичанская никогда не делала из него тайны. В начале ее болезни они заходили, охали, суетились вокруг нее, гладили по голове — неумело, с явной опаской.
Бабушка воспринимала их приходы в штыки, под их руками казалась застывшей, деревянной, как столб, неподатливой; если ей сильно докучали, притворялась умирающей: падало давление, она начинала тяжело дышать или вцеплялась в мою руку мертвой хваткой и не отпускала, пока за ними не хлопала входная дверь. Однажды я подслушала их сетования:
— Зачем все это? Софья была таким волевым человеком, видеть ее беспамятство просто беда. Лучше б поскорее отмаялась.
Бабушка лежала рядом. Они принимали ее за неразумную, глухую, отключенную от мира, поэтому в выражении своих чувств не стеснялись.
Я нажаловалась Марку Григорьевичу, и визиты племянниц прекратились.
В этот его приезд они почему-то нарушили запрет, приперлись и целый час терзали Марка Григорьевича за закрытыми дверями. Я услышала только, как он громко закричал: «Не надейтесь, в хоспис она не поедет, бесполезно меня уговаривать!» Вскоре они ушли, красные, надувшиеся, как мышь на крупу.
Я сидела с бабушкой. Она сильно нервничала, вцепилась в меня своей птичьей лапкой и не отпускала. Я долго гладила ее волосы, но она никак не могла заснуть. Нет, я никогда бы не назвала мою бабулю бесчувственной, полночи я рассказывала ей про свою жизнь в Харабали, по-моему, это ее отвлекало.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу