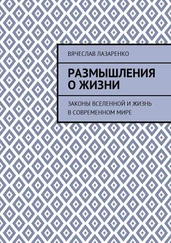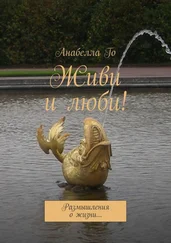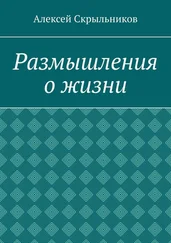— А в чём дело?
— Это не телефонный разговор, но дело чрезвычайно важное, можно сказать, государственное.
— Неужели государственные дела стали доверять лицедеям? Забавно. Впрочем, диктуйте адрес, я приду.
Капитан сказал, куда артисту следует явиться, и добавил: "Думаю, вы понимаете — о нашем разговоре никто не должен знать.
— Ну, как же… Я детективы тоже читаю. Можете не сомневаться — могила.
Но мог ли Жора удержать в себе государственную тайну? В тот же вечер он поделился ею с приятелями в пивной.
— И чего от меня кэгэбешникам надо? — недоумевал он.
— Ты, Жорик, элементарных вещей не понимаешь, — объяснили ему приятели, — фаловать будут, вербовать значит.
— Куда вербовать?
— В стукачи. И меня вербовали, и Петьку, и Ивана. Как где поскандалишь и в ментовку попадёшь, так сначала тюрьмой грозят, а потом в стукачи идти предлагают. В сотрудники, то есть. У них так заведено.
Стал Жора соображать, как от этого капитана отделаться и придумал: напился почти в стельку и явился на свидание в райотдел милиции.
— Кто тут капитан Ковалёв? У меня к нему дело государственной важности, — заявил он с порога и для наглядности икнул густым перегаром.
— А ты кто такой? — спросил его дежурный.
— Кино надо смотреть, сержант. Губошлёп я, не узнаёшь? "Калина красная", артист Бурков.
Узнал дежурный артиста и проводил к Ковалёву.
— Ты чо от меня хотел? — изрёк Жора, развалившись в кресле. — Какое у тебя государственное дело? Излагай — ик! — слушаю.
Капитан с ненавистью посмотрел на Жору и поднял трубку.
— Дежурный, проводите товарища артиста к выходу.
— Постой, капитан, мы же ещё не поговорили. Дело-то какое?
— Идите, идите. Не о чем нам с вами говорить.
Дежурный поднял Жору за воротник и на выходе ещё поддал пинком под зад. "Вот что такое настоящий талант", — с гордостью говорил друзьям на съёмочной площадке Бурков. А в дневнике записал: "Не к лучшим временам идём, собираются торговать нами". Он предвидел перестроечные времена.
После смерти друга Бурков мечтал открыть центр культуры имени Шукшина. Ему пришлось столкнуться с потоком бюрократических отговорок и отписок, но в конце восьмидесятых годов этот центр всё же был открыт. Когда в стране появились "новые русские", Бурков записал: "Мы живём в чужой стране. Нашу родину оккупировали коммунисты. Беда, что это не враги, а свои, в этом секрет их успеха".
В 1980 году у Буркова произошёл первый инфаркт. С тех пор он стал бояться смерти. Жора вспомнил, что когда-то цыганка нагадала ему умереть в пятьдесят пять лет. Бурков с ужасом жил весь этот год, и вздохнул свободно только, когда роковой год миновал. Прошли успешные съёмки фильма Рязанова "Гараж". В конце девяностых годов Рязанов предложил ему играть главную роль в фильме "Небеса обетованные", но этому было не суждено стать. Во время съёмок Жора вдруг упал. Врачи "Скорой помощи" решили, что у него второй инфаркт и положили Буркова в больницу. Состояние актёра было довольно стабильное, но на шестой день он вдруг стал задыхаться. Вызвали хирурга, который пришёл только через шесть часов.
— Держись Жора, — шептала ему жена.
— Продержусь, сколько смогу, — с трудом ответил Бурков, но через пятнадцать минут умер. На вскрытие был обнаружен тромб в лёгочной артерии.
Через два года его дочь Маша родила внука, которого назвали Жорой.
Что автору сказать в заключение? Горько. Очень жалко земляка. Но это типичная советская история. Разглядеть вовремя талант, поддержать его, под силу лишь столь же талантливому человеку. Поэтому испокон веку на Руси спиваются и гибнут тысячи неординарных личностей. И это, видимо, неистребимо.
За долгую семейную жизнь я лишь один раз не ночевал дома. Это случилось, когда одному из друзей, у которого я был в гостях, принесли кассету с записью песен Галича. Я слушал их тогда впервые. Было ощущение разорвавшейся бомбы.
Мы давно пережили доклад Хрущёва, наше отношение к Сталину не сразу, но опрокинулось, уже был прочитан "Один день Ивана Денисовича", но тут вдруг в душу ворвалась такая искренняя авторская боль, такая обнажённая правда, что эту затёртую московскую плёнку мы слушали и слушали, не в силах оторваться. А потом обсуждали песни до утра.
Да, нет, это были не песни. Это были живые чувства людей: и страдальцев, переживших страшное сталинское время, и негодяев, для которых оно было родным и желанным. Мы сострадали и негодовали, мы купались в психологической достоверности. Мы не сомневались, что автор рассказывает о своих лагерных скитаниях, о тоске по воле, о надеждах. Солженицин в прозе, Галич в стихах — и одинаково правдиво, одинаково талантливо. Нам казалось, что так рассказать о себе может только бывший зэк. Разошлись только под утро — потрясённые.
Читать дальше