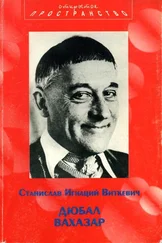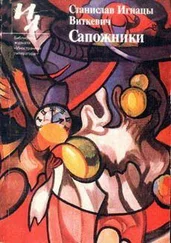А тем временем он почти что подошел к своему домику в Дембниках.
Маленькая жалконькая каменная стеночка прошлого, XIX века, будто сложенная детьми из немецких детских кубиков. За ней находилась Русталка — его жена, собственная, любимая, приклепанная к нему стальными клепками «наглухо», «намертво», навсегда, на веки вечные — а в бесконечности развевалась покрытая инеем от испаряющегося жидкого гелия борода Бога — стыд, радость и страх. Все это хорошо, поначалу как нечто абсолютно новое, но потом — впрочем, об этом именно потом. И здесь, на ступеньках, при виде увядающих рудбекий и зарослей садовых барбарисов, ежевики, винограда и молодой рябины, горевших уже в последнем розовом сполохе угасающего солнца, в нем второй раз что-то «екнуло». Дом был тот же самый, в котором Изя жил до женитьбы. Он снял еще одну комнату, а из средней сделал столовую. Перевозка домашнего скарба обернулась для Изидора страшной мукой. Однако в глубине души пряталось маленькое пикническое удовлетвореньице, что все здесь так привычно, так хорошо, так «ujutnie». Снова в памяти заворочался спутанный клубок каких-то наркотических попыток имитировать бешеную, титаническую силу старого комедианта Ницше; что ж, в качестве наркотика он был хорош для декадентов с 80-х годов по 1900 приблизительно годик или в качестве некой высшей марки понятийного ярлыка для прусских «юнкеров», которые au fond потешались над его прикрытым маской Übermensch [141] Сверхчеловек (нем.).
’а психофизическим убожеством.
Это был единственный мыслительный эквивалент непосредственно переживаемого состояния. «Ведь могло бы ничего и не быть, и меня в том числе, никогда бы я не протиснулся в этот мир из небытия, но еще более странно предположение, что мир мог бы существовать без меня. И что был бы он точно таким же, и что история как-нибудь да справилась бы с моим отсутствием, а хуже всего то, что так оно и будет». Тут страх смерти кольнул его, но не тот, который возникает в минуты физической опасности, а какой-то отвратительный, метафизический, страх сам по себе: страх перед Небытием — факт подвешивания его над «gähnendem Abgründe des Unbekannten» [142] Зияющей пропастью неизвестного (нем.).
— по-другому не скажешь, да и будет об этом. И тогда он почувствовал, что жилец этот будет становиться все сильнее и сильнее и должен будет взять власть над ним прежним, не понимавшим слова «собственность», «легким мотыльком иных миров», как называла его эта обезьяна Гжешкевич.
Он обнял жену (как будто в первый раз — вчера было лишь насилие и какие-то жуткие вещи, которым ее, ясное дело, научил Марцелий — пусть же ему земля за это будет относительным пухом) и в пятый или в шестой уж раз констатировал, что она, не в пример его последней, такой эфирной любовнице, довольно плотная и даже толстая. Ах, как же это хорошо! Эти толстоватые, но правильной формы голени по сравнению с палочками той, другой, впрочем, очень красивой и, можно сказать, несовершеннолетней девчушки из «плебса», были просто шикарными, только запах подмышек был не совсем тот, то есть не такой, как у этой мартышки Гжешкевич. (Можете смеяться, можете возмущаться, но все это вещи архиважные.) Трагедия, конечно, но, в конце концов, можно было простить ради такого личика и таких ног — казалось, что в этих «непосредственно данных простых элементах ее тела» заключены несметные богатства грядущих наслаждений. Но не знал Изидор, до каких ужасных размеров порою разрастаются мелкие на первый взгляд проблемы — ведь ему никогда еще не приходилось жить с женщиной более полугода.
Русталка смотрела на него внимательно, даже с некоторым оттенком симпатии, когда он водил губами по ее лицу и иногда отстранялся сантиметров этак на двадцать для того, чтобы насладиться ее видом (просто «упивался ее красотой», как сказал бы поэт) и еще сильнее распалить себя для того, что, по всей вероятности, должно было произойти. «Это у нее, у нее все это — и эти ноги принадлежат этой мордашке», — думали в нем гениталии с помощью центров, созданных для чего-то лучшего, а не для таких «грязных» психических моментов. Некоторое время она, черт знает почему, сопротивлялась ему: просто хотела как следует осознать, что это именно ее муж, что это ее собственность, что у него есть кое-что, и это его кое-что находится в ее собственности, как зубная щетка, биде или клизма, или еще какой предмет личной гигиены, и что через мгновение этой самой штуковиной, которая теперь бесспорно и официально принадлежит ей по закону, он будет в ней «шуровать». К тому же она хотела, чтобы он захотел этого по-настоящему, а не делал по обязанности или (теперь уже) по привычке, без усердия, как будто речь шла о еде или мытье. Вспомнив блаженство прежних соитий и почувствовав, что Изидор (это орудие философии) в данный момент возжелал ее по-настоящему, она, до предела разворошенная изнутри, с ощущением супружеской безопасности и полной удовлетворенности на годы вперед в связи с обладанием такой бестией, выпустила его, впавшего в раж, на себя. То же и Изидор: он тонул в наслаждении оттого, что подбирался к своей безусловной собственности и к такого рода вещи, которая до сих пор была в основном чужой или ничьей, но уж никак не его.
Читать дальше