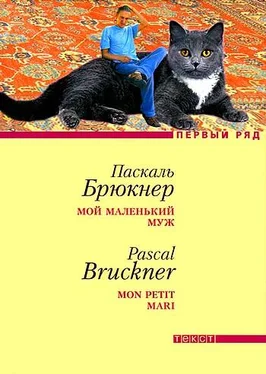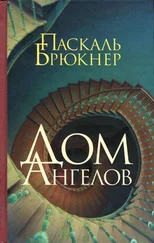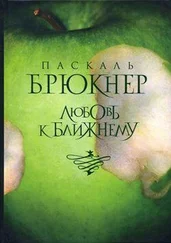Соланж довольно быстро взяла себя в руки; она выставила детей, затворила дверь гостиной и, открыв секретер светлого дерева, достала конверт, набитый оранжевыми и зелеными купюрами.
— Возьми и уходи. Мне без разницы, как ты ухитрился выжить. Знать ничего не хочу. Убирайся.
Она не говорила, а выплевывала слова. Ее лицо под загаром пошло красными пятнами, подбородок дрожал. Леон заметил в рыжей шевелюре несколько тускло-серых прядей. Тело Великанши, на которое он когда-то не мог наглядеться, слегка расплылось. Беременность, конечно… Или он всегда путал понятия и большое необязательно красиво?
— Уйди с моих глаз, слышишь? Скажи ему, Даниэль, да скажи ты ему, выпроводи его, мужчина ты или нет?
Но Дубельву, еще в шоке, благоразумно держался поодаль, ломал пальцы от смущения и помалкивал. Этот мастодонт ростом метр девяносто, что греха таить, праздновал труса.
— Как ты вообще посмел сюда явиться после всего? Так поступить с нами… — начала Соланж.
Ее лицо, подурневшее от злости, залилось краской до корней волос. Веко подергивалось, точно плохо закрытый ставень.
— Ты погубил мою репутацию, сделал меня посмешищем в глазах всей родни. Чтобы такая красивая женщина, как я, делила постель с недомерком, позволяла ему делать с ней свои грязные делишки — всех моих друзей это возмущало. Они уговаривали меня расстаться с тобой, найти мужчину себе по росту. Я была тверда, преодолевать трудности мне помогала любовь: я не хотела видеть, кто ты есть — опухоль на моем теле, гнойный прыщ. Я пропускала мимо ушей насмешки, не слушала предостережений. Потом, когда ты стал таять на глазах, я испытывала смешанное чувство, жалость пополам с нежностью, но жалости, откровенно говоря, было куда больше. Я сочла своим долгом не бросать тебя — ведь, несмотря на твой недуг, ты сделал мне четверых чудесных детей. Я верила, что рано или поздно все уладится и ты снова пойдешь в рост, как живучее растение.
Соланж умолкла, переводя дыхание, попросила у Дубельву стакан воды, и тот, рад-радехонек, с готовностью скрылся. Она измученно опустилась в кресло и продолжила тише:
— В сущности, я была права, ошиблась только в сроках. Чем меньше ты становился, тем больше наглел. Ты сеял смуту в доме, пользуясь своим ростом, хамил мне, настраивал против меня детей. Ты умыл руки, а я одна тащила воз. Всему есть предел, даже терпению любящей женщины. А как долго от меня шарахались мужчины — боялись испариться, растаять рядом со мной. У меня была дурная слава, с каким трудом я от нее избавилась! Что ты дал своей семье? Только горе и страдания. Твои дети стыдились тебя. Если бы Даниэль не решил разделить нашу жизнь и тем самым спасти нас, я просто не представляю, что бы с нами сталось! Мои родители состарились, болеют…
Вдруг лицо ее исказилось от ярости, она вскочила с кресла и, встав перед Леоном, топнула ногой.
— И теперь ты посмел явиться, как ни в чем не бывало, и думаешь, все будет по-прежнему? Я знать не хочу, что с тобой произошло, Леон, по документам ты умер, ты — ошибка Создателя, все о тебе давно забыли. Я люблю Даниэля, слышишь, я жду от него ребенка, он — мужчина моей жизни, и дети уже зовут его папой!
Гнев ее был явно преувеличен, обидные слова били не больнее, чем детские кулачки по животу взрослого. Леону стало жаль ее. Соланж умолкла, выдохшись после этой обвинительной речи, отдышалась и прошептала едва слышно:
— Возьми деньги и уходи, пожалуйста, умоляю тебя. Я не стану заявлять на тебя в полицию за незаконное проникновение в жилище.
И, упав в кресло, она разрыдалась. Дубельву, вернувшийся со стаканом воды, кинулся ее утешать. Соланж не была злой — она была просто несчастной женщиной и оплакивала утрату своих амбиций. Она думала только о себе. Леону было тяжело это видеть.
Между тем дети, у которых любопытство пересилило страх, сгрудились за дверью гостиной — носы младших расплющились о стекло под напором старших — и смотрели на эту сцену во все глаза. На их мордашках было написано скорее удивление, нежели враждебность. Все поглядывали на Леона, видно надеясь, что у них с Дубельву дойдет до кулаков и Большому Жирдяю достанется на орехи. Но они ошиблись объектом.
Да, Леон при виде этой сопливой орды, столько лет измывавшейся над ним, не мог устоять: руки у него давно чесались. Он засучил рукава, снял со всех четверых штанишки и всыпал им по первое число. Может, это было и нехорошо, но зато как приятно! А старшенькому, который всегда был его любимчиком, он выдал двойную порцию. Все орали благим матом, кроме Батиста, который не пикнул и косился на отца с вызовом, но при этом почти одобрительно. Дубельву стыдливо опустил глаза, а Соланж снова упала в обморок. Это была лучшая взбучка в жизни Леона, он шлепал пухлые попки своих упитанных малышей с такой силой, что заболели ладони. Отведя душу, он взял конверт с деньгами, хлопнул дверью и ушел, не оглядываясь.
Читать дальше