Раздался недовольный, сердитый голос Поппи, уже не так высоко, где-то рядом с нами:
– Ну что ты расходился, Касс Кинсолвинг? Нашел кого ненавидеть – артистов. Мистер Леверетт расстроен. Он устал и хочет наконец доехать до верху. Говорила я тебе, нельзя пить столько вина в такую жару…
– Слушайте, Леверетт, – не умолкал Касс, – я вам надоел? Хотите увидеть лица, настоящие лица? Вы здесь побудете? Давайте я как-нибудь сведу вас в Трамонти. Вот где лица прямо из двенадцатого века. Я покажу вам лицо такое гордое, трагическое, исполненное такого смертного величия – вы решите, что перед вами Исайя. Мало этого! Там…
– Хватит! – сказала Поппи и топнула ногой. – Не понимаю, что на тебя нашло в последнее время, Касс Кинсолвинг. Почему ты себя так ведешь.
– …там есть старая ведьма, она таскает на горбу колья для виноградника и зарабатывает этим девяносто лир в день. Девяносто лир! Пятнадцать центов! На горбу! Вы должны увидеть ее лицо. Лицо из Грюневальда – эти губы, искривленные постоянной мукой, серые и жалкие, как оживший стон…
– Перестань наконец! – крикнула Поппи. – Ты таким становишься нудным от вина! И язву свою ты доконаешь! Не слушайте его, мистер Леверетт. А я вам вот что кричала: пожалуйста, попросите Розмари де Лафрамбуаз отдать нам на вечер Франческу. Фелиция простудилась, я хочу ее сразу уложить, и чтобы Франческа помогла.
– Да… – начал я, но тут все мое расслабленное умиление от окружающей красоты исчезло, а нахлынул тошнотворный страх. О Господи, опять? – подумал я. Неужели опять? Ибо оказалось, что торопливый зловещий треск у меня в ушах – не обман чувств: треск был настоящим, он нес опасность и раздавался совсем рядом. Оглушительные выстрелы разрывали сумрак.
– Осторожно! – завопил я. – С дороги!
Но было поздно. Ревущая серо-зеленая тень и верхом на ней две фигуры – брюнет и прильнувшая к нему сзади девица в красных штанах, которые трепало ветром, – мотороллер был уже между нами, и Поппи с Кассом испуганно отскочили к крылу «остина», а дети разлетелись во все стороны, как клочки бумаги на ветру. «Идиот!» – крикнул Касс, но тоже поздно. Мотороллер пронесся мимо на полном газу, неприлично стреляя из-под хвоста дымом, и шелковистые красные бедра девушки мерно вздрагивали, как у наездницы, в такт толчкам машины; потом все это исчезло за поворотом. Мы с тревогой повернулись к обочине: Ники еще вертелся волчком, словно его ударило или зацепило, потом растянулся в канаве. Поппи подлетела к нему.
– Ники! Ники! – закричала она. – Посмотри на маму!
Все это сегодня уже было; тут, впервые в жизни, честное слово, я поверил, что ад существует.
– Скажи мне что-нибудь! – заплакала она.
И сразу отозвался веселый голос:
– Я не ушибся, мамочка. Я просто упал.
Потом я услышал, как всхлипывает с облегчением Поппи и – свой голос:
– Вы поняли, Касс, что я говорил про итальянцев? Они больные. Они…
Касс остановил меня повелительным жестом, взмахнул бутылкой.
– Не надо конвульсий, мой друг, – спокойно сказан он. – Никакой это не итальянец. Наш киношничек. Откуда-нибудь из Айовы.
– Кошмарный был день, – сказал Касс – Не день, а сволочь.
Я согласился. Только что я рассказал ему – первый раз во всех подробностях – о моем столкновении с Ди Лието и обо всем остальном. А он, потея под каролинским солнцем, то и дело отирал лоб. Потом он вспомнил, какой у меня был вид, и звонко, оглушительно захохотал, хлопая себя по коленям; он хохотал так громко и так долго, что я тоже рассмеялся, впервые, наверно, разглядев смешное в моем сумбурном приезде; когда мы вдоволь насмеялись и последние веселые смешки сменились тихой задумчивостью, он сказал:
– Понимаю, тогда это было не смешно. Совсем не смешно. Но поглядели бы вы на себя. Вы были похожи на большую испуганную птицу.
– Но вы-то… – начал я и остановился, не зная, что еще сказать. Вот уже третий день мы выезжали в лодке на середину реки Ашли и ловили красных окуней. И если он, знавший большинство ответов, не рассказал мне почти ничего, я рассказывал ему без конца – хотя мне и рассказать-то было нечего. Стояла жара, над нами вились комары; вместо всегдашнего берета, который сделался в моих глазах непременной и даже карикатурной принадлежностью американца за границей, голову его прикрывала от солнца соломенная шляпа. Она да старые саржевые брюки морского пехотинца, выгоревшие до сенного цвета, составляли его рыбацкий наряд. Касс был босиком, и на очках его оседала испарина. Он жевал толстую сигару, недокуренную, погасшую.
Читать дальше

![Уильям Моррис - Сказание о Доме Вольфингов [сборник]](/books/32406/uilyam-morris-skazanie-o-dome-volfingov-sbornik-thumb.webp)



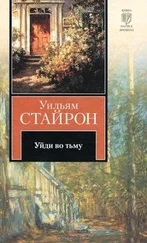


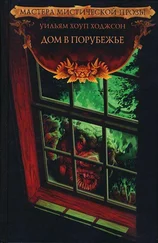
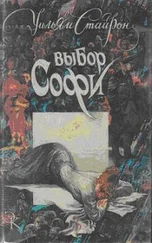
![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/403897/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres-thumb.webp)