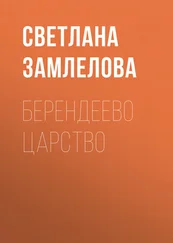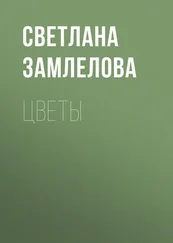– Нет! Мы его кремируем!..
И, воодушевлённый своей новой идеей, принялся собирать в кучу сухие ветки. Когда костёр был готов, он уложил в самую его середину воробья и поджёг. Пламя занялось сразу, но тушка горела медленно. Медленно и обезображивалась. Кузен был в восторге. Он не спускал глаз с костра, шевелил горевшие ветки и всё чему-то смеялся. Мне было приятно, что я сумела доставить ему удовольствие – ведь это я указала на мёртвую птицу. Но вместе с тем, меня мучило подозрение какой-то своей вины, мне казалось, что я сделала что-то очень скверное.
Наконец птица кое-как сгорела. Присыпав останки несчастного воробья землёй, кузен действительно устроил что-то вроде могильного холмика, в головах которого воткнул «крест». Сложив вместе две палочки, он переплёл их полоской коры, и такой-то «крест» водрузил на «могиле» маленькой птички, чей трупик на какое-то время стал ему игрушкой.
Весь вечер я старалась не думать о воробье. Но, улёгшись спать, я вдруг вспомнила поджатые скрюченные лапки, плотно сжатый клювик, прикрытые бусинки-глазки – и разрыдалась. Мне вдруг показалось, что этот бедный воробушек был нашим с мамой секретиком, чем-то, что объединяло только нас двоих. И, допустив к этой тайне кузена, я как будто совершила предательство. И сама же, своей рукой разрушила эту связь с мамой. Сначала мне стало страшно: казалось, что-то потеряно навсегда. Потом меня охватил стыд и жалость чуть не ко всему живому. Я долго плакала в ту ночь. О пережитом я никому не рассказывала, потому что не знала тогда, как объяснить своих чувств...
О подобных «шалостях» кузена в нашей семье было хорошо известно. Но их не просто извиняли, как непреложные мальчишеские потехи, но даже и добродушно посмеивались. Дескать, вишь, стервец, что удумал!
Тётя Амалия, потерпевшая неудачу в устроении личного счастья, в какой-то момент вообразила, что назначение её – в служении ближним. Совершенно искренно она уверовала сама и в короткие сроки убедила в том окружающих, что наделена будто бы какой-то особенной добротой. И что доброта эта заставляет её радеть обо всех и буквально забывать о себе.
Я не помню, чтобы тётя Амалия когда-нибудь жертвовала собой или предпринимала что-то, не сообразующееся с её собственными интересами. Все свои благодеяния тётя Амалия отлично помнила и не считала лишним иной раз напомнить о них облагодетельствованным. Но зато тётя Амалия умела порой очень убедительно вскрикивать при упоминании о чужих неурядицах. Правда, зачастую этими вскрикиваниями да ещё разве слезами, на которые она совсем не скупилась, ограничивалось всё участие сострадательной тёти Амалии.
Признаться, я никогда не понимала, как удалось ей так быстро убедить всех в том, чего никогда не было; и что же было в ней такого особенного, что сохраняло авторитет её непререкаемым, а влияние неограниченным. К тёте Амалии, сумевшей так поставить себя, шли за советом даже старшие братья, перед ней исповедовались, ждали её суда. Ей без всякого труда удалось внушить маме, что нам с братом ни в чём нельзя верить, что все наши поступки корыстны. «Это в таком-то возрасте!» – вздыхала тётя Амалия. И что, наконец, есть другие дети, с которых нам не мешало бы брать пример. Особенно всё это касалось брата. И мама слушала её. И случалось, ни за что обижалась на нас с братом. «Этого я тебе никогда не прощу!» – сурово повторяла она в таких случаях, обращаясь ко мне или к брату, чем приводила нас в ужас. Помню, мне казалось, что это конец, что всё хорошее в моей жизни на этом заканчивается.
И очень скоро тон, заданный тётей Амалией, был подхвачен и хорошо усвоен всем нашим семейством. В больших сообществах, в стаях, действуют свои законы, требующие жёсткой иерархии и строгой дисциплины. Каждое существо в стае занимает особое место, исполняет особую роль, переменить которую без согласия и ведома остальных бывает почти невозможно. Брату с первых лет его жизни отвели в нашей стае роль мальчика для битья. Тётя Амалия потрудилась создать брату репутацию шельмеца. Но поскольку на деле шельмовства никакого не было, то шельмеца глупого, смешного, шельмеца-неудачника, тщетно силящегося надуть кого-то и неизменно раскрываемого. Подлость и хитрость его сделались притчей во языцех. Им не уставали удивляться, а удивляясь – радоваться. Надо сказать, что в семействе нашем издавна прижился дух соперничества. Дядья и тётки всё как будто соревновались между собой: чей стол обильней, чей дом уютней, чьи дети умнее. Сравнивали, у кого из дочерей косички толще. Сравнивали невесток и зятьёв: кто из них больше любит нашу семью, кто больше достоин называться её членом – точно это была какая-то особенная честь. И вот к вящей радости дядей и тёток, брат, прослыв жалким и негодным, не мог больше соперничать ни с кем из их детей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу