А Тина, как выяснилось, ничего не знала о моих встречах с Виктором ранней весною, на майнской набережной, за каких-нибудь, получается, девять или девять с половиною месяцев до этой нашей поездки и сразу после его собственного возвращения из Петербурга, куда (как уже известно читателю) заезжал (залетал) он по пути из Японии, после всего, что с ним там случилось и не случилось. Он улетал еще из старого Пулкова, думал я и говорил Тине, когда мы с нею улетали из нового. В ожидании вылета сидели мы в дорогом, очень невкусном кафе на этом новом и замечательном, за, наверное, месяц до нашей поездки в Петербург открывшемся аэродроме; Тина, помнится мне, подняла голову от альбома с работами легендарных петербургских фотографов (Бориса Смелова и Кудрякова, Бориса же) подаренного ей (в последнюю, почему-то, минуту) явно собравшимся дружить и сотрудничать с нею Димой, на своем забрызганном внедорожнике марки «Ниссан» отвозившим нас по новой автостраде на этот новый аэродром. Как это похоже на Виктора, typisch Viktor, она рассмеялась, когда я рассказал ей о Викторовом, очевидно первом, посещении Музея кино, в трех кварталах и за двумя углами от того дома, где он прожил все свои франкфуртские годы, и c какой опаской садился он в кресло-лицо, с каким изумлением рассматривал глянцевую программку музейных фильмов, которых больше нигде не увидишь. Typisch Viktor, как это мне знакомо… Как это знакомо мне, говорила Тина, закрывая, наконец, альбом с легендарными фотографиями, всем своим широким лицом слушая мой рассказ о повторявшихся прогулках по майнской набережной, о бомбежных тучах и клочьях артиллерийского дыма и Викторовом желании уйти, просто выйти из своей жизни – и дверь закрыть за собою, и о том, как мы с ним дошли до русской книжной лавки на Данцигской площади, о существовании которой он, видимо, тоже не подозревал до тех пор (да, typisch Viktor), и потом очутились в бандитском баре возле вокзала, и что поведал нам плачущий полицейский, подшивший к делу лотерейный билет с миллионным выигрышем, и как простились мы на случайном углу, вблизи от борделя, в который (но этого рассказывать я не стал) зашел я, чтобы тут же из него, впрочем, и выйти… Сидя рядом с задремавшей Тиной в самолете из Петербурга во Франкфурт, глядя в иллюминатор на всякий раз и при каждом полете неожиданные, всегда неправдоподобные облачные поля, сияющие млечные россыпи, предназначенные для ангельских стоп, не для человеческих глаз, думал я (думаю и теперь) о том, как прошли для него, Виктора, эти несколько месяцев между его возвращением из Японии, из Петербурга и Бобовой гибелью, эти, значит (поставим уж точные даты), весна и лето 2013 года, столь мучительные для Тины, столь прекрасные для меня. А для меня это были прекрасные месяцы; я дописывал «Пароход в Аргентину»; уезжал в Мюнхен, когда только мог; Виктору не звонил; позвонивши, не дозвонился; сказал ему что-то на автоответчик; ответного звонка не дождался и снова звонить не стал. Он мне тоже не стал, значит, звонить. А между тем он еще прожил всю весну и все лето во Франкфурте; я это знал от Ирены, от Вольфганга; они оба видели его в дзен-до, на дза-дзене вечернем и утреннем; о своих японских переживаниях он им ничего не рассказывал. На дза-дзен он ходил, а на сессин в Нижней Саксонии, куда Ирена вместе с Бобом ездили в мае, не поехал, Ирена не знала или не помнила почему. Может быть, в банке не отпустили его. Не поехал с Бобом и в сентябре. В сентябре с Бобом никто не поехал: ни она, ни Виктор, ни тихий Роберт, никто. И неужели я всерьез полагаю, что они сумеют когда-нибудь простить это себе и друг другу?.. Нет, она не может сказать мне, каким был Виктор в эти последние полгода; был как всегда; был таким же. Печальным? Наверное; они все тогда были печальные (рассказывала Ирена), после истории с Барбарой, после Герхардовой измены. Они начали все сначала, да, правда, но начало оказалось лишь повторением начала; радости не было. Они думали, что радость вернется, что пройдет время, забудутся обиды и раны, измены и подлости и вновь появится какое-то движение, какая-то динамика, какие-то перспективы, но ничего этого не появлялось, и чем дольше не появлялось, тем сильнее делалось чувство, рассказывала Ирена (с которой шли мы, как когда-то с Виктором и Рольфом-Дитером, по неприбранным парковым аллеям, окружающим старый город вместо исчезнувшего рва и снесенной стены), что это все временно, эта новая старая сангха, что все должно измениться, разрешиться как-то и чем-то, никто не знал как, никто не знал чем. Это чувство было, я думаю теперь, и у Виктора. И в сангхе, и в самой его жизни что-то должно было, наконец, разрешиться, решиться. Он так надеялся, что решится в Японии; не решилось. Он просто ждал, не решится ли как-нибудь… Он, теперь мне кажется, затаился. Потому, наверно, и не звонил мне; и если было что-то новое в его жизни – новые отношения, новые люди, то, во всяком случае, мне о них ничего не известно; и ни Ирене, ни Вольфгангу, ни тихому Роберту он о них не рассказывал; если рассказывал Бобу, то Боб уже не расскажет о них ни мне, ни Ирене.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
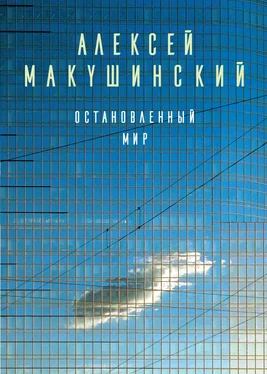

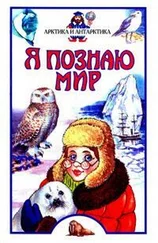




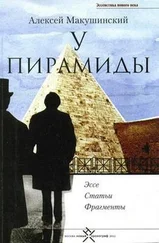


![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-thumb.webp)

