Темный деспот, красное дерево
Тут я сдался и объявил, что верю ему во всем. Я ему во всем не верил; ни в чем ему, пожалуй, не верил; а все же это именно он, Ген-наадий, прочитал мне те строки из Джалаладдина (в самом деле) Руми в переводе Фридриха (действительно) Рюккерта, которые мне так часто суждено было впоследствии вспоминать, повторять про себя в разные эпохи и в разных обстоятельствах жизни, которые так много значили потом и для Виктора, вообще-то стихов не читавшего, после того как я процитировал их в разговоре с ним, в Эйхштетте, вечность спустя. Это великие стихи, без сомнения, и я помню (вот это помню точно), как я шел по Невскому, и затем свернул на Большую Морскую и вышел к Исаакию, и прошел под аркой на Галерной (где наши тени, разумеется, навсегда…), и свернул на Английскую набережную, и посмотрел на рябчатую свинцовую гладь Невы, и по бесконечному мосту перешел на Васильевский остров, и покуда шел, выходил, смотрел и сворачивал, все повторял про себя, на ветру, что там, где пробуждается любовь, умирает я , темный деспот. Denn wo die Lieb‘ erwachet, stirbt das Ich, der dunkele Despot… Вот и пускай оно умрет, это я , пусть он умрет, этот деспот, дай умереть ему в ночи, и вздохни свободно на утренней заре. Du laß ihn sterben in der Nacht und atme frei im Morgenrot… Опять был, как же иначе, серенький петербургский денек; низко, над свинцовой и рябчатой гладью летели рваные облака; дворцы Английской набережной, когда я смотрел на них с другого берега, уже казались крошечными, готовыми навеки пропасть, навсегда потеряться под этим плоским небом, в этой продуманной, геометрической, себя саму сознающей бескрайности. На Васильевском жил в ту пору другой, куда более симпатичный мне персонаж моей петербургско-буддистской жизни, так называемый Васька (в созвучии с островом…), или Васька-буддист, персонаж, с которым познакомил меня Ген-наадий, и причем, вот это тоже я помню точно, познакомил меня в гостях у некоей дамы (ее имени вспомнить я не могу), дамы (как я теперь понимаю) еще молодой, тогда совсем немолодой для меня (когда нам самим двадцать три или двадцать четыре, для нас что тридцать пять, что пятьдесят, все едино), богатенькой (по советским меркам), собиравшей антиквариат, увлекавшейся, как бы уж заодно с антиквариатом, йогами, ламами, экстрасенсами, Гурджиевым, Рерихом, какой-то Шамбалой, какими-то мантрами… одной из тех сделанных женщин , каких я немало видел потом в разных странах и городах, из тех богатеньких (они почему-то всегда богатенькие) сделанных женщин , все слова, и жесты, и движения (и улыбки, и взгляды) которых озарены изнутри светом самолюбования, сознанием собственного благополучия, собственной избранности и причастности к чему-то возвышенному, чему-то особенному ( темный деспот никогда не умирает и не умрет в таких женщинах; он-то и светит в них, сквозь них своим темным светом …). Квартира ее (на Петроградской стороне) являла собой род бессмысленного музея с хрустальными, понятное дело, люстрами и темными картинами в золоченых рамах, а вот каким образом из своей коммуналки на Васильевском попал туда Васька-буддист, я не знал и не знаю. Мы любим красное дерево, сказала дама, приветствуя в моем лице московского гостя, хорошо продуманным жестом тонкой руки обводя обстановку. Кто эти мы , она не объяснила. У московского гостя (чем он потом немало гордился) хватило выдержки ответить, что мы предпочитаем карельскую березу. Мы с Васькой-буддистом, во всяком случае, вышли оттуда вдвоем, долго, поняв друг друга, отплевывались и смеялись, и я точно ни разу, кажется и он ни разу, не бывал потом у любительницы красного дерева, предоставив дружить с ней Ген-наадию (родственные души рано или поздно находят друг друга).
Толстовский нос на гоголевском лице
Как Ген-наадия все всегда называли Ген-наадием, так Ваську-буддиста все всегда называли Васькой-буддистом, как если бы это буддист было частью его имени (оно же было частью судьбы), но, разумеется, лишь за глаза называли его так, в лицо говорили Вася , с нежностью и почти с придыханием, впрочем, не без иронии (имя ведь само по себе смешное, да и персонаж был смешной; смешной и трогательный сразу, как это нередко бывает). Он был довольно длинный, этот Васька-буддист, с длинными гладкими русо-рыжими волосами, перевязанными, случалось, кожаной ленточкой, и с совершенно неуместным на его узком длинном лице широким, толстым, почти толстовским (очень трогательным, очень смешным), на ветру и на холоде бурно красневшим носом; имел (скорее неприятную) привычку брезгливыми длинными пальцами снимать с себя что-то, с плеча и с груди, со свитера и с рубашки – невидимый волос, незримую паутинку; ходил всегда в потертых, бахромчатых на концах штанин джинсах, застиранных и заплатанных, его единственных, обожаемых им. Был, короче, хипарь , говоря языком (поганой, прекрасной, погибшей) эпохи, из тех хипарей , которых милиция забирает при случае просто так, без всякого повода: негоже, в самом деле, человеку с таким лицом, такой прической, в таких тертых джинсах разгуливать по нашим социалистическим улицам. Жил он в чудовищной коммуналке на одной из дальних линий Васильевского острова, и чем, собственно, занимался, помимо своего буддизма, я так и не понял или не помню, работал, может быть, истопником или дворником, как в то прекрасное, поганое время делали многие. Добравшись по коридору до его комнаты, уже старался я оттуда не выходить; выходить бывал вынужден; и вот навсегда остался в памяти, верней, тут же, как только я вызываю его, всплывает в памяти крюк, запиравший дверь в отхожее место, крюк прямо живодерский и пыточный (то ли теперь преувеличенный памятью, вообще охотно меняющей пропорции вещей и событий, то ли и вправду такой огромный, каких я больше не видывал), когда-то рыжий, блестяще-белый на исподе загиба, там, где соприкасался он с не менее гипертрофированной скобою, вбитой в косяк, мерзко и резко скрипевшей при тугом западении, затем высвобождении крюка. Все это правда было, тридцать лет назад, в Ленинграде, на одной из дальних линий Васильевского острова, не помню уже какой именно: эта вонючая уборная в утробном конце коридора; эта скоба, этот крюк и этот бачок в поднебесье, с его, тоже рыжею, бесконечною цепью, по которой, сливаясь с ее звеньями и подделываясь под них, медленно, неотвратимо, в своем собственном кошмарном сне, вверх и вниз ползали, иногда замирали, затем опять ползли ржавые тараканы. Кошмар заканчивался, когда возвращался я в Васькину комнату. Увеличенная (не памятью, но печатью) фотография Д.Т. Судзуки, висевшая на стене возле книжной полки, всякий раз бросалась мне в глаза, на глаза, словно приветствуя мое возвращение в чистый и лучший мир; замечательная, с тех пор не раз в разных книгах встречавшаяся мне фотография с взвихренными бровями, готовыми улететь за край кадра: левая, черная, бровь уже улетает, правая, седая и смятая, еще медлит над стеклышком безоправных очков – слишком современных, слишком модных, почти пижонских на этом старом азиатском лице; полагаю, что не я один, но и Васька-буддист, и другие его гости чувствовали символичность этого сочетания западной новизны с восточной архаикой. Оно повернуто в три четверти к зрителю и заполняет собою почти весь кадр, это азиатское архаическое лицо в пижонских очках, в старческих складках, с глазами, тоже подобными складкам, такими узкими, что непонятно, как вообще могут они смотреть (а между тем видно, что они смотрят, спокойно и пристально, себя не показывая, души и мыслей не выдавая), лицо значительное, очень недоброе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
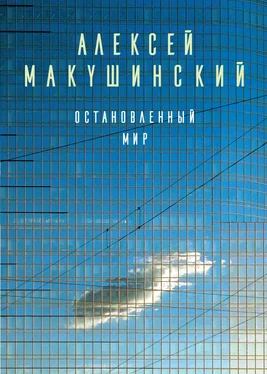

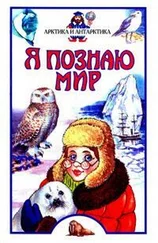




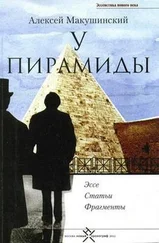


![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-thumb.webp)

