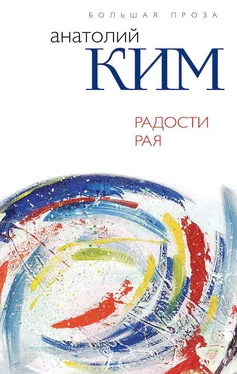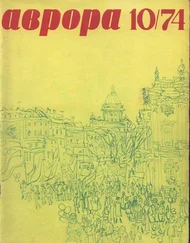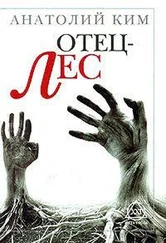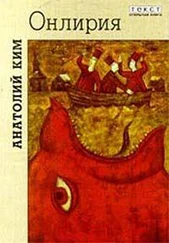Я ей дал тогда интервью, а она мне ничего не дала, хотя и завлекала, и намекала всячески — о том, что носила в себе под канареечного цвета кофточкой и твидовой юбкой, словно цветущую беременность, — то самое, что я искал, меняясь и перерождаясь, уже многие тысячи лет своего жизненного похода: радости рая на земле. Но в какой-то момент я С. Т. не поверил и, вежливо попрощавшись, покинул ее студию и на такси вернулся в кампус Колумбийского университета на Бродвее, где размещалась группа приглашенных в Америку русских писателей. В упомянутый выше пресловутый момент мне было дано великое откровение, словно гению, что вся Америка внутри своей исторической утробы никогда не ощущала райских блаженств, сколько бы долларов ни напечатала и сколько годовых солнцевращений бы ни прошла за свое существование. Нет! Не в эту сторону мне надо было смотреть и не внутри Америки рай земной высматривать — на этом месте от самого начала и до самого конца не выпадало ни кусочка от райского пирога, который Бог обещал испечь для сочиненного Им человечества.
Итак, ничего путного не добившись ни от Лиз Ричмонд, которая много дала и ничего не взяла, и ни от С. Т. Рощиной, которая ничего не дала, а взяла только интервью — да и то не родила его, — я оставил в покое США и двинулся в Южную Америку.
А полосатую рыбку Земфиру все-таки было жалко.
Еще на острове LaGomera Канарского архипелага, когда при новой инкарнации с помощью магических слов, что между мною и Александром ничего не стояло, я оказался в эолите, на заре каменного века, который многие научные схоласты называли веком золотым, — меня захватила прелесть самого невинного и простого существования охотника-камнеметателя, когда все жизненные проблемы можно было решить, бродя по горам и долам с камнем в руке.
Гуляя в эолите и увлеченно давая имена всему и вся на свете, что ни попади на глаза, я однажды разжигал свой последний в той райской жизни костер, которому имя было Александр. Теперь же, собравшись погулять по Южной Америке, я вспомнил про весельчака-орангутанга из зоопарка Парамарибо, показанного в телевизионной передаче про животных, — тоже по имени Александр, между которым и мною также ничего не стояло, не висело, не лежало, — и я оказался перед его клеткой, где постоянно толпилось множество хохочущих суринамцев и суринамок, бразилианцев и бразилианок, с детьми и без оных, а также немало бледноногих американских туристов и туристок в шортах. Перед ними, за мощными крутыми прутьями кованой ограды, лениво развалившись на камнях, царственно кривлялся громадный, лысый, бородатый, лохматущий, апельсинового цвета Саша Бронски. Он, впрочем, и косил глазками невероятной звериной хитрости, как у боксера Тайсона, заворачивал на эти глаза вывернутую верхнюю губу с налипшими табачинками от разжеванного сигаретного окурка, обнажал мокрые бурые клыки чудовища — и смеялся, смеялся над жалкой и пустой человеческой жизнью. Словно Диоген посреди Афинской площади, орангутанг онанировал на своем красном здоровенном елдорае — с неподобающей такому массивному зверюге суетливой скоростью. Толпа с хохотом и азартными женскими визгами начинала распадаться перед клеткой, утаскивая детей от греха подальше, и вскоре перед онанирующим Александром Бронски остался я единственный. Он все тем же прежним наглым взглядом был уперт в мою сторону, но как будто не видел меня или смотрел куда-то вдаль сквозь мою сущность. Одновременно для удобства перемены в позиции своих рук — верхними длинными ухватился теперь за сук дерева над головою, а короткой нижней рукой стал шуровать с еще более умопомрачительной скоростью.
— Стоп, Бронски, стоп, Саша, — увещевал я орангутанга. — Немного снизил бы темп. По этой дорожке кто пошел, тот до рая не дошел.
— А тебе какое дело? — был ответ. — Сам ты пошел. Отвалил от меня. Понял? Мой рай — елдорай. Который всегда при мне. И еще — целых четыре руки. С одной устал — передал в другую. И в третью! И в четвертую! Как это — до рая не дошел? Да каждый день минимум четыре раза доходил!
— Это контрпродуктивно! — напирал я. — И довольно противно. Видел бы ты свою физиономию. Особенно в тот миг, когда кончал с очередной руки. Глаза дебильные — наперекосяк. Улыбка как у Фернанделя. Рука-ракетоноситель строчила в таком темпе, что ее совсем не было видно, хотя сама красная ракета спокойно оставалась на виду. Красная ракета всегда была знаком беды. А на кой тебе сдалась такая беда, Бронски?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу