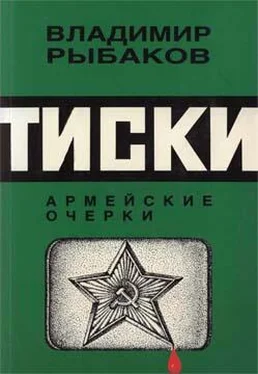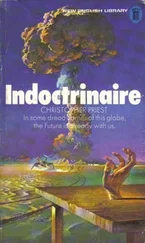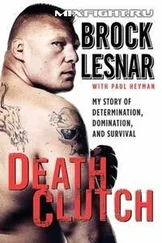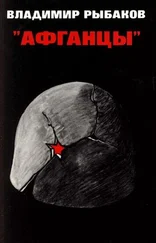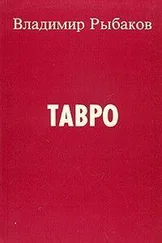«Передохнул. Давай, знаешь родину? Вперед!» Они побежали вниз к речке. Режуще прошли над ними в полутемноте мины. Нахоров упал. И затрясся в руках Дадлина: «Не задело тебя, не задело. Беги, сучье вымя, хош, чтоб они прицелились? Ноги вырву, беги».
У реки их накрыла ночь. Дадлин слышал моторы кругом. «Облаву устроили, только теперь я уже не охотник».
«Осторожно, не свались в воду». Река еле шипела на камнях, бормотала на изгибах угрозы. Все было враждебным, даже мягкий воздух осени давал горлу зуд. Тихое отчаяние заволновалось в Дадлине. Спотыкаясь, он вспомнил Бессонова, но не смог пожалеть ни себя, ни его. Без лейтенанта Бессонова многие во взводе Дадлина дожили бы до дембеля. Бессонов не мог нормально служить: он не боялся смерти, но мысль стать инвалидом, подобно отцу, видеть, как жена путается с кем попало в открытую и беспомощно просить ее не уходить из дому — сводила его ум на нет. В своем безумии Бессонов, от страха получить ранение, каждый раз бросался навстречу смерти и тянул за собой остальных. Его афганцы никак не могли убить, но зато, во время операций, сильно редел личный состав. Пришлось старикам — некоторым оставалось воевать пустяки — лейтенанта проиграть в тюремное очко.
«Эх, сгорел я тогда, четыре показал. Почему не три? Был бы уже дома. Ни разу не повезло, сгорал да сгорал».
И толкнул Дадлин Бессонова на операции с крутизны, поддел слегка плечом, под одобрительный рев ребят. Лейтенант не стал инвалидом. Не было бы выше в скалах подыхающего со скуки кретина-наблюдателя, ходил бы Дадлин героем. Нет, в своем отчете тот даже описал, как после преступления все лезли обнимать и хлопать убийцу по спине и плечам. В штабе приказали ему об этом забыть, но замять дело уже не было возможности.
На губе и увидел Дадлин впервые Нахорова — катался по цементному полу, раздирая себе пальцами грудь, худосочный парнишка. Отпихнув его сапогом, постелив на цемент номера «Фрунзе», Дадлин уснул тогда с мечтой о несбыточном, о сытой свободе. Ночью мечта наполовину обрела плоть — растолкав соседа, Нахоров сказал: «Ты выпить и пожрать хочешь? Я видел, часовые твои кореша. У меня афгани закопаны в разных местах. Пусть мне машину купит и ханку, тебе что надо, и ему еще останется. После я второй тайник укажу. Как»? «Как знаешь?» «Только часовые могли тебе „Фрунзовки“ передать, и вот хлеб у тебя в кармане. Так как?» «А ты кто такой? За опиум посадили? Вижу. На игле сидишь. Сколько дадут?» «Много. Так как?»
Глупо было не согласиться. Не прошло и суток, уже лежал Дадлин сытый и пьяный, да глядел с усмешкой на Нахорова, радостно вгоняющего себе в вену опиум и восклицающего: «Я тебе говорил, деньга, она все может». «Думаешь, она тебя от вышки спасет. Ни трибунал, ни пули ты не подкупишь, сволочь. Не от кайфа сдохнешь!» Дадлин уже знал, за что парня должен был приголубить трибунал. Нахоров продавал что подворачивалось под руку, вплоть до мисок, ложек и тумбочек, раз ему удалось выкрасть два ящика конфет. Нужны были запасы денег.
Опиум дает избыток фосфора в костях. Без опиума кость орет, требует проклятого фосфора. Наркоман воет от боли, бьет себя камнем по костям, старается внешним страданием заглушить внутреннее.
Страх перед своим телом стал сильнее страха смерти. И стал Нахоров продавать автоматы… пока не накрыли. Дадлин собственными руками убил бы Нахорова — будь он еще в роте. Но здесь, на губе, его заполняла не злоба, а презрение и отвращение. Нахоров привычно их ощутил и ответил с привычной уже грустью: «А, ты уже знаешь. И сразу сволочишь. Ну, бей и ты. Я буду тебя поить и кормить, а ты будешь меня бить. Я согласен. Вот погляди, как меня офицеры отделали. Но я не против, я заслужил. Видит Бог». «Что?» «Бог. Меня ведь к кайфу приучили уже очень, очень давно, на гражданке, я тогда совсем еще пацаном был. Девушка потом меня спасти хотела, любила может, не знаю. Она меня в церковь водила. Тамарой звали, клевая была. Вся измучилась, ну, мучил я ее. Спасти, как будто не спасла, но к Богу привела».
Спина Нахорова была исполосована, из-под разорванной кожи выглядывало особого белого цвета мясо. Дадлин скривился, ответил серьезно: «Бога нет, это все знают. Не спас он тебя ни тогда ни теперь». «Нет, он есть. И это все знают».
Спор продлился неделю, до освобождения. Открылась одной ночью дверь, и знакомый Дадлину голос зашептал: «Не могли тя оставить. Пришел приказ отправить тя в Термез, а там только расстрел дают. Беги. Мы только с операции, часть пуста. Начкару устроили морду на две недели санчасти, остальным дали по легкому сотрясению, сами просили, чтоб че не вышло. И дома, вишь, из-за тебя повоевали трошки. Беги, только живьем не попадайся. Просим. А этого надо кончить…»
Читать дальше