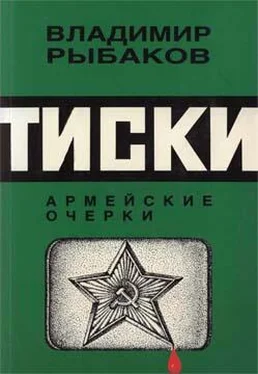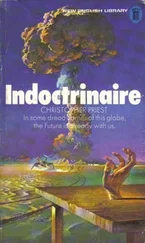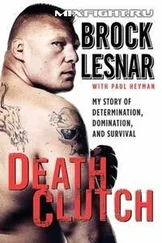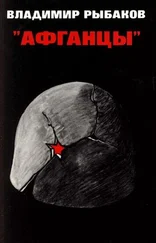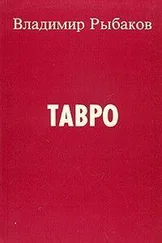И сказал капитан Василевский сержанту Люблину: «Гяур или не гяур, а на тракторе тебе надо быть и вспахать этот проклятый участок. Вспашешь, будет тебе отпуск, двухнедельный и без дороги. Будешь дома месяц. Даю слово. Откажешься, все равно под трибунал попадешь, не за это, так за другое. Пошлют тебя на передовую, в горы. Сам знаешь, что это значит. Это тебе не дисбат, как в мирное время, а самый что ни есть штрафбат. Да ты не бойся, все поле будет оцеплено, все стволы наведены на кишлак и горы. Не осмелятся они. Подумай и согласись. Не хочу тебе приказывать, ты должен добровольно».
На следующий день утром дали сержанту Люблину для смелости стакан водки и подвели к старому колесному трактору. Просили ребята разрешения хотя бы приварить к кабине стальные листы. Отказали, не должны, дескать, басмачи-афганцы думать, что боится их советская армия. При этом капитан Василевский дал намеками понять, что он сам себе противен. Тяжестью на его совести лежали души людей, погибших во время ремонта усадьбы-школы. Василевский, выпив, не скрывал своих чувств. Он знал, что афганские дети все равно не пошли бы в эту школу, ходили бы себе к старикам и муллам за учебой. Отдать дурной приказ дело нехитрое. Сидит себе сволочь-полковник в штабе, настоящем доте, и творит на бумаге всякую кровавую глупость, от которой после душа болит. Василевский иногда показывал фотографию сына, которому недавно исполнилось шестнадцать лет. Он часто жалел, что был назначен секретарем партбюро. Ходил бы себе в боевых офицерах, все же меньше ответственности.
На концах поля стали бронетранспортеры, в свежевырытых окопах засели три отделения, в орудийных — установили гаубицы. Мотор трактора плаксиво завыл. Люблин попросил и получил еще водки. Тронулся. Он работал весь день до ночи. Поле было вспахано, и сержант Люблин остался жив. Ни один выстрел не нарушил работы. Жители кишлака спокойно наблюдали. Капитан Василевский был в восторге, а сержант Люблин себя время от времени любовно общупывал, словно проверял, нет ли все-таки в нем пулевой дырки. Он был наполовину еще на поле и наполовину уже в отпуску.
Двое суток спустя, безлунной ночью, в ливень афганцы атаковали часть. Полночи длился минометный обстрел. В палатку капитана Василевского угодила прямым попаданием мина. Его жалели, не очень, но все же жалели. Наутро убедились, что кишлак обезлюдел. Но больше всего пострадал сержант Люблин. Он так и не получил отпуска.
Лейтенант Андрей Тонкин часто выходил на берег, туда, где встречались Цильма и Тобыш, глядел на большую воду, выпивал бутылку водки, не пьянел и возвращался в деревню. Города Тонкин не любил, хотя всегда к нему стремился. В Трусове за два месяца был всего раза три, тратил деньги и силы, хвастался своей долго не заживающей раной. Смеялся: «Осколок был ржавый, кровь в спине попачкал, но доказал все же, что может, может сапер ошибаться дважды. Ждет меня за горами на дороге другая, голубушка-стерва пригреет». Некоторые женщины жалели Андрея, а он, пользуясь этим, перед разлукой или вечным расставаньем показывал свою начитанность. Когда-то, сначала курсанту, а затем лейтенанту Тонкину казалось, что сапера все должны любить, в особенности бабы. Ну, как не страдать по человеку, ходящему рядышком со смертью. Люди же на него смотрели, как на дурака. Отец прямо сказал самым своим тяжелым голосом: «Значит, мы с матерью тебя растили, чтоб ты на дурацкой мине подорвался, так, что ли?» Мать воскликнула в слезах: «А рос ведь нормальным парнем». Ленке с птицефермы Андрей сказал, что голубушка-стерва его ждет и пригреет. Ленка спросила, кто это и где она живет. Ответил Андрей: «Живет она под Кабулом, Гератом, Кандагаром. Зовут ее Мина, горяче́е в любви не бывает». «Дурак ты, ох, дурак», — сказала Ленка, а после, ночью, залезла к нему в комнату через окно. Утром заплакала, то ли по себе, то ли по нему: «Тебя под утро кошмары били, аж кричал».
Лейтенант Тонкин хотел не жалости, а восхищения. Но и в Трусове, подле интеллигентных женщин, его не нашел. Ловил иногда в женском взгляде нежность, но была она предназначена не ему, а трупу лейтенанта Тонкина. Было обидно. Деньги-то на ресторан тратил живой Тонкин. Утром, одеваясь и опохмеляясь, лейтенант рассказывал: «Не было ничего прекраснее Герата. Но до сих пор высится грозно и непоколебимо крепость Калаи Ихтиярэддина, кое-что осталось от двухсот мечетей древнейшего города Афганистана. Даже Александру Македонскому не удалось его покорить. Каменные кружева и плетения вечны, незабываемы». Только раз, морщась от головной боли и позабыв о выспренности, добавил почти с гордостью: «Полгорода как не бывало. Наша армия — это вам не Александр Македонский!»
Читать дальше