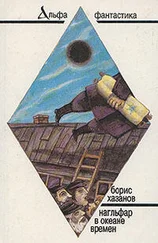Чтобы сделать яснее нашу мысль, скажем совсем кратко, что «ценностей незыблемая скала», по красивому выражению поэта, есть нечто равно присущее шахматной игре, повествовательному искусству и человеческой жизни. Точнее, то, что должно быть им присуще. Вот в чём соль — в этой вере, будто играть надо по правилам. Хорошо построенный роман выражал уверенность автора в том, что мир покоится на незыблемых устоях морали. Между тем оказалось, что абсолютную мораль можно заменить ситуационной; что правила можно менять как вздумается. Продолжая сравнение литературы с шахматами, отважимся спросить: не в этом ли скрыта разгадка того, почему романисты в нашем отечестве так и не научились сюжетосложению, не научились уважать сюжет (автор данного произведения — прекрасный пример), и не в этом ли заключается ответ на вопрос, почему история под пером романистов в стране, которой Игрок поставил мат, разлезается, как гнилая ткань. С исчезновением ценностей роман, словно шахматы без цели поставить противнику мат, попросту теряет смысл. Его герой случайно, точно занесённый каким-то ветром, появился на этих страницах и, должно быть, так же случайно исчезнет.
Был ли он патриотом? Вопрос задан не совсем кстати. И всё-таки: заслужил ли он это почётное звание? Другими словами: какую пользу могли принести своей стране люди, подобные Льву Бабкову, какой толк от этих людей? На первый взгляд, никакого.
Этот человек был уверен: великое открытие, совершённое Россией в нашем столетии, есть в самом деле великое открытие: игра проиграна, но играть можно. Да, можно играть и дальше, хотя какая же это игра — без короля? Человек, который так думает, какой он, к чёрту, патриот. Патриот не верит в действительность, а верит в свою страну.
А с другой стороны, мы решаемся утверждать, что герой этих страниц был нечто большее, чем патриот. Такие люди, как он, вообще избегают говорить о патриотизме — по той простой причине, что понятия любви или ненависти, верности или презрения теряют смысл, когда имеешь в виду самого себя. Разумеется, можно и презирать себя, и быть влюблённым в себя без памяти, но это совсем не то, что любить или презирать другого; и уж во всяком смысле невозможно быть патриотом самого себя; между тем как Бабков имел веские основания сказать о себе, переиначив слова короля-Солнца: le pays, c'est moi! Да, дорогие соотечественники, никуда не денешься, Россия — это и есть Лев Бабков; возможно, он возразил бы, скромность не позволила бы ему так себя аттестовать, придётся сделать это за него.
Идея, заслуживающая рассмотрения
«Ты как сюда попала?»
Молчание. Она уставилась в пол.
«Откуда ты знаешь, что я здесь?»
«Это правда?» — спросил старший сержант.
«Что правда?»
«Это правда — что она говорит?»
«Что ты ему сказала?» — спросил Лев Бабков.
«Она говорит, что она твоя дочь».
«Ах да, — сказал Бабков. — Ну, конечно. Вечная история, опять от тётки сбежала».
«Чего ж мне с вами делать. Протокол, что ли, будем составлять. Ладно, забирай её, на хрена она нам тут сдалась».
«Куда я её заберу. Мне в ателье надо возвращаться, коллеги ждут».
«Ну и бери её с собой».
Разговор происходил в детской комнате районного отделения, больше напоминавшей тюремную камеру. Окно забрано решёткой. Железная койка привинчена к полу, дверь снабжена оптическим приспособлением, которое в классические времена именовалось волчком, а в наши дни называется глазком. В комнате находился стол, весь исцарапанный, покрытый следами канцелярского труда, за столом восседал, заложив сапог за сапог, старший сержант Павел Лукич.
Луша сидела на кровати, составив коленки в дырявых чулках, на ногах — разбитые ботинки.
Она подняла голову.
«Врёт он — никакая я ему не дочь».
«Позволь, позволь. Ты же сама сказала».
«Мало ли что сказала… это я чтобы его найти. И призвать к ответу».
«Что-то я не понимаю», — сказал Павел Лукич.
«Чего ж тут понимать, — сказала она. — Он меня изнасиловал. Я в Москву приехала. Он меня на вокзале увидел, заманил к себе, а теперь от меня скрывается. Я от него беременна».
«Всё по порядку, — сказал Павел Лукич. — Значит, ты не отрицаешь, что эта барышня твоя дочь?»
«Такая же, как твоя».
«Позволь… а чья же?»
«Чья-нибудь, — сказал Бабков. — Я её знать не знаю. Вяжется ко мне, а зачем, сама не знает. Всё, что она рассказывает, враньё. Она и мне наврала с три короба. Сама не знает, чего она хочет; теперь вот зачем-то сюда припёрлась».
Читать дальше